
Бесплатный фрагмент - Дома смерти. Книга IV
«Дом смерти» в тупике Ронсин
Французский президент Феликс Фор сейчас в России известен мало, о нём помнят разве что специалисты, изучающие историю отечественной дипломатии, военно-технического сотрудничества Российской империи и Третьей Французской республики или этапы развития международных финансов и кредита. Между тем время президентства Феликса Фора — речь идёт о 1895 — 1899 годах — чрезвычайно интересно как само по себе, так и теми воистину судьбоносными для России результатами, что явились следствием выбранного Фором курса.
Этот в высшей степени талантливый политик и финансист умудрился превратить Россию в стратегического союзника Франции, добившись от Императора Николая II пересмотра внешнеполитической доктрины его отца, ориентировавшегося на прочный военный союз с Германией. Причём проделал это Фор в кратчайшие сроки — во время двух личных встреч с Российским императором в 1896 и 1897 годах. В первом случае Николай Александрович вместе с супругой приезжали в Париж, а во втором — Фор отправился во главе французской эскадры в Санкт-Петербург. Во время этого визита французский президент принял участие в закладке постоянного Троицкого моста на месте наплавного, действовавшего с 1803 года.
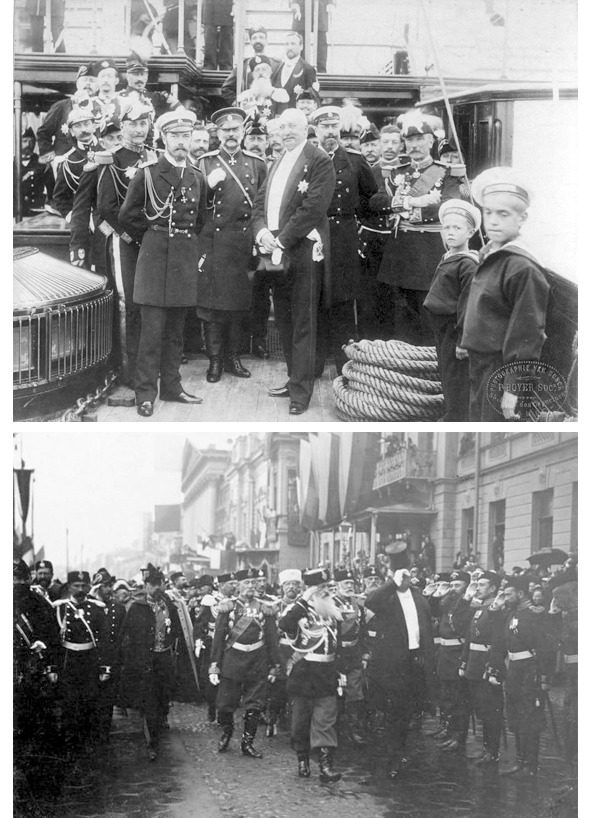
Президент Франции купил расположение молодого российского императора за недорого, просто предложив выгодный кредит на различные инфраструктурные проекты. На деньги французских банков в европейской части России стали строиться водонапорные станции, канализация, линии «конного трамвая», промышленные предприятия с крупной государственной долей в уставном капитале и тому подобное. Упомянутый выше Троицкий мост в Санкт-Петербурге, кстати, тоже строился по французскому проекту французской же фирмой [с размещением части заказов в России]. Так состоялся противоестественный союз крупнейшей мировой монархии и самой скандальной на тот момент демократии в мире. И это при том, что в те годы Россию и русских во Франции ненавидели практически все… Министр иностранных дел граф Михаил Николаевич Муравьёв по этой причине в 1898 году не без горькой иронии пошутил, сказав, что к России во Франции хорошо относятся всего два человека.
Одним из этих двух человек являлся как раз таки Феликс Фор, а другим — Анри Бриссон, один из пяти премьер-министров, работавших с Фором. На самом деле, если уж доводить шутку графа Муравьёва до полного абсурда, то следует признать, что Россия имела во Франции трёх друзей, и имя третьего мы в своём месте назовём.
Президент Феликс Фор сослужил своей Родине большую службу, ведь его союз с Россией предопределил победу Франции в Первой мировой войне. Строго говоря, сама эта война стала возможна как раз потому, что между Францией и Россией состоялся союз. Если бы его не было, то и до мировой войны дело бы не дошло!
Строго говоря, биография седьмого президента Третьей Французской республики нас интересует мало, поэтому останавливаться на её изложении мы сейчас не станем. Жизненный путь этого мэтра французской политики с разной степенью детализации изложен на многих интернет-площадках — как отечественных, так и иностранных — так что все заинтересовавшиеся без труда утолят любопытство. Нас сейчас интересует лишь несколько аспектов жизни Фора, которые, как станет ясно из дальнейшего, имеют непосредственное отношение к сюжету. А именно — родился будущий президент 30 января 1841, и на момент смерти ему исполнилось 58 полных лет, а кроме того, он был счастливо женат — жена Берта была на 1,5 года младше — и в браке Феликс Фор стал отцом двух дочерей — Люси и Антуанетты. Старшей из дочерей на момент смерти отца шёл 33-й год, а младшей — 28-й. Обе дочери были не замужем, но старшая неофициально пребывала в статусе невесты, и женихом её являлся Марсель Пруст, начинающий, но уже широко известный писатель. На 59-м году жизни 16 февраля 1899 года Феликс Фор скоропостижно скончался. И это событие следует, пожалуй, взять в качестве отправной точки настоящего сюжета.

В официальном правительственном сообщении до сведения населения доводилась следующая картина произошедшего. Около часа пополудни 16 февраля президент, работавший в своём кабинете в Елисейском дворце в Париже, почувствовал недомогание. Он подошёл к двери в комнату личного секретаря Ла Галля (Le Gall), сообщил тому о дурном самочувствии и попросил помощи. Секретарь немедленно уложил президента на диван в его кабинете и сразу же по телефону вызвал доктора Хамберта (Humbert), находившегося как раз в ту минуту в Елисейском дворце. Доктор прибыл немедленно. По его мнению, состояние Феликса Фора «не выглядело опасным», однако врач остался дежурить возле президента и обратил внимание, что тому становится хуже. Не желая терять ни минуты, доктор Хамберт распорядился вызвать опытнейших врачей Ланне (Lanne), Лонго (Longue) и Шёрле (Sheurlet). Каждый из них лечил прежде Фора, и потому мнение каждого могло представлять немалую ценность.
Упомянутые врачи прибыли в Елисейский дворец со всей возможной скоростью, взяв по дороге также доктора Дюпюи (M. Dupuy). Следует подчеркнуть, что этот врач не имел никакого отношения к Чарльзу Дюпюи, одному из пяти премьер-министров, сменившихся во главе правительства во время президентства Фора. После первого консилиума упомянутые четыре доктора посчитали нужным вызвать специалиста по заболеваниям мозга Берджерея (Bergerey). Последний, осмотрев по прибытии президента, сообщил, что дело безнадёжно и надлежит обеспокоиться последними распоряжениями. Президент Фор в этом время всё ещё оставался в сознании.
К больному были вызваны его близкие, находившиеся в другом крыле дворца — супруга Берта и старшая дочь Люси [младшая находилась в отъезде]. Они появились в кабинете президента в 20 часов. Они оставались возле него до 22 часов — той самой минуты, когда доктор Дюпюи, следивший за пульсом Феликса Фора, констатировал его смерть.

Случившееся грозило серьёзными беспорядками и застало страну врасплох. Фор пришёл к власти в 1895 году в результате тяжелейшего затяжного правительственного кризиса. Теперь же его скоропостижная смерть грозила ввергнуть страну в такую же точно неспокойную пору. Тело президента ещё не было предано земле, а по Парижу уже покатились политические демонстрации под самыми разными лозунгами, повсеместно перераставшие в кровавые побоища представителей различных партий и воззрений.
Впрочем, политическая история Франции нас не интересует совершенно, поскольку область интересов автора ограничена историей криминалистики и уголовного сыска. Поэтому будем держаться ближе именно к заявленной тематике.
Сразу после смерти президента Фора в Елисейский дворец прибыл Октав Хамар (Octave Henry Adeodat Hamard), комиссар республиканской контрразведки [начальник отдела, если говорить в более близких нам понятиях]. Современный читатель, пожелавший собрать информацию об этом человеке, скорее всего, узнает, что тот являлся высокопоставленным сотрудником Уголовной полиции, известной под названием «Сюртэ», но это не вполне так. Служба в «Сюртэ» являлась оперативным прикрытием Хамара, который во исполнение служебных обязанностей должен был легально появляться в различных местах и на различных закрытых мероприятиях. В своём месте нам придётся ещё сказать несколько слов об этом необычном человеке, поскольку его имя ещё не раз будет упомянуто в этом сюжете.
Октав Хамар в течение ночи осуществил сбор информации на месте происшествия и провёл то, что мы сейчас назвали бы предварительным расследованием. Закончив своё дело, комиссар контрразведки удалился вместе со своими сотрудниками, число которых достигало двух дюжин. Хамар, считая картину случившегося не до конца ясной, настаивал на проведении вскрытия тела Феликса Фора. Его можно было понять — он подозревал отравление президента. Выгодополучателей от такого отравления было очень много, и все они были весьма и весьма влиятельны. Первым таким выгодополучателем могла быть Великобритания, с которой Французская республика в тот момент находилась на грани открытого военного столкновения. Для тех, кто не в курсе специфики внешней политики Франции тех лет, автор рекомендует быстро навести необходимые справки в интернете по ключевым словосочетаниям «фашодский кризис» или «поход Жана-Батиста Маршана». Вторым потенциальным выгодополучателем являлась Германия, заинтересованная в ухудшении отношений Российской империи с Французской республикой и возвращении Императора Николая II к идее возрождения русско-германского партнёрства. Ну, а третьим по счёту выгодополучателем, вернее, целой группой таковых, могли быть внутренние партии, заинтересованные в устранении Феликса Фора. Последний считался слабым президентом, поскольку был вынужден постоянно играть на противоречиях гораздо более сильных противников. Помните старую советскую шутку про «стул с пиками точёными» — так вот, Феликс Фор последние годы сидел на таком стуле, и желающих вонзить в него нож поглубже было не просто много, а очень много. То есть логика Октава Хамара представлялась вполне понятной — он хотел знать, не отравлен ли президент Французской республики.
Однако вдова президента — Берта Фор — запретила проводить судебно-медицинское вскрытие трупа и связанное с ним судебно-химическое исследование крови и внутренних органов. И её тоже можно было понять — скоропостижно скончавшийся президент являлся наркоманом, но объективные тому доказательства были совершенно недопустимы. Феликс Фор нюхал кокаин, который сам же называл «ядом», но от употребления которого не мог отказаться. Вдова президента знала, что судебно-медицинская экспертиза непременно отыщет некий яд, вот только яд этот умерший принимал вполне добровольно… Разве можно допускать разглашение такого рода интимных подробностей?!
Пока во Франции справляли государственный траур, и пытливые умы обывателей бились над вопросом о преемнике скоропостижно скончавшегося президента, в прессе стали распространяться разного рода неполиткорректные и прямо предательские выпады. Спустя сутки с момента смерти Фора некоторые парижские газеты дали короткие заметки, из которых следовало, что рядом с президентом в последние минуты его жизни находилась некая женщина, чья фамилия начиналась на букву «S». Как нетрудно догадаться, эта женщина не являлась женой и… кхм… вообще не являлась родственницей усопшего. Хотя и была близка ему не менее жены, а может, и более. Находчивые журналисты даже высказали кое-какие соображения о личности таинственной дамы, чья фамилия начиналась на букву «S». По мнению одних знатоков высокой политики, это была некая очень привлекательная еврейка из хорошей еврейской банкирской семьи, по мнению других — не менее привлекательная француженка, актриса Сесиль Сорель (Cecile Sorel), и, наконец, по мнению третьих знатоков светского закулисья — это была Маргарита Штайнхаль (Marguerite Steinheil), жена известного художника, державшая в своём доме салон и… коротко дружившая с президентом.
Как известно, языком трепать — не мешки ворочать, поэтому парижане и прочие французы не без удовольствия обсуждали пикантные подробности смерти нелюбимого президента. Вернее, предполагаемые пикантные подробности… Ибо истинной картины случившегося не знал почти никто. А те, кто знал — тут сразу на ум приходит Октав Хамар — предпочитали в те дни молчать.
До поры до времени все эти рассуждизмы и намёки выглядели как-то вздорно и легковесно. Однако 26 февраля 1899 года в иллюстрированном журнале «Progres illustre!» появилась очень любопытная картинка, изображавшая момент смерти президента Фора. На ней были показаны его жена, старшая дочь и врачи, перечисленные выше, однако отсутствовал секретарь Ла Галь. Вместо него почему-то был изображён пожилой Бюиссон, личный слуга президента. Но самая главная странность этой иллюстрации заключалась в том, что на ней была запечатлена некая неизвестная женщина, третья по счёту, чьё присутствие символически олицетворяла Мона Лиза. Та самая, нарисованная Да Винчи.
Это был очень странный рисунок, который, с одной стороны, был не вполне точен, а с другой — удивительно точен. Да-да, так бывает!
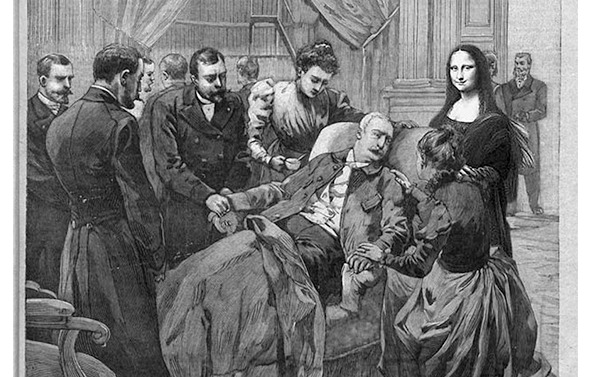
Тот, кто нарисовал его, безусловно, был очень хорошо информирован о событии, которое взялся изображать. Этот человек знал, что смерть президента Феликса Фора неким образом связна с загадочной женщиной, имя которой никто из хорошо осведомлённых должностных лиц в силу неких причин называть не желал. Именно её присутствие художник и замаскировал образом Моны Лизы.
Художник был прав в главном — в момент приключившегося с Феликсом Фором кризиса рядом с ним была женщина, причём в весьма интимной обстановке. Если говорить совсем уж посконным языком и исключить эвфемизмы, то президенту стало плохо во время сексуального контакта с любовницей, которую звали Маргарита Жанна Штайнхаль (Marguerite Steinheil). И поскольку весь криминальный сюжет, которому посвящён этот очерк, связан непосредственно с нею, на биографии и особенностях личности этой дамочки необходимо остановиться подробнее.
Родилась Маргарита в апреле 1867 года в деревне Бокур (Beaucourt) на самой франко-швейцарской границе [почти в 370 км от Парижа] в семье довольно крупного провинциального землевладельца Эдуарда Джапи (Edouard Japy). Род отца был очень богат, его предки владели различными фабриками и мануфактурами, вошедшими в компанию «Japy Freres», однако Эдуард ещё до рождения дочери разорвал отношения с роднёй и вышел из семейного бизнеса. Он жил доходами с имения и никакого иного бизнеса не вёл. Мать Маргариты — в девичестве Эмили Рау (Emilie Rau) — являлась дочерью трактирщика. Семья была зажиточной, но, как видим, о благородном происхождении Маргариты не могло быть и речи. У Маргариты был старший брат и сёстры старше и младше неё. Интересная деталь — все дети, кроме Маргариты, получили более или менее приличное образование — они отдавались в пансионы, а братишка Жюльен даже окончил провинциальное военное училище и стал кавалеристом — а вот юная Марго в школу или пансион не ходила. Сама она называла собственное образование «домашним».
Отец скоропостижно скончался в ноябре 1888 года. С этого времени начались финансовые проблемы, которые Эмили Джапи пыталась решать энергично, но не очень удачно. Сначала она вложилась в строительство крупного парникового хозяйства, которое должно было приносить хороший урожай цветов круглый год. Оказалось, что во французских грязях розы и гладиолусы зимой никому не нужны… Тогда Эмили решила отгрохать свинарник на 100 свиноматок по последнему слову ветеринарной науки. Денег потратила много, прибыли не получила, вонь свинячьего дерьма разносилась на километры вокруг и удовольствия не приносила. Что ж, как говорится, бывает и хуже, но реже.
В распоряжении матушки оставалось последнее средство пополнения домашнего бюджета — выдача доченьки замуж. Старшая из дочерей уже была пристроена за малозаметным чиновником столичной администрации по фамилии Херр (Herr), и ей поручили подыскать приличную партию для сестры. И та подыскала — притом какую! Мадам Херр устроила знакомство младшенькой сестрички с Адольфом Штайнхалем (Adolphe Steinheil), довольно известным в Париже художником, происходившим из семьи, оставившей след в культурной истории Франции. Отец Адольфа — Луи Штайнхаль (Louis Charles Auguste Steinheil) — был известен работами по стеклу и со стеклом, он делал замечательные витражи, а также занимался иллюстрацией христианской и художественной литературы. Муж тётки Адольфа — Эрнест Мессонье (Ernest Meissonier) — являлся очень талантливым и успешным в материальном отношении художником. Достаточно сказать, что он построил для себя в Париже особняк, достойный статуса королевского дворца, и участвовал в возрождении Национального общества изящных искусств (SNBA), президентом которого и стал в 1890 году.
Адольф Штайнхаль считался художником-ремесленником, хотя и лишённым таланта родственников, но тем не менее обладающим высоким уровнем профессионального мастерства и способным рисовать очень качественно. Кроме того, переняв от отца навыки работы со стеклом, Адольф являлся очень компетентным реставратором средневековых витражей, и эта работа приносила ему даже больший доход, чем рисование картин. Не будет ошибкой сказать, что к 1890 году это был человек очень известный в Париже и в каком-то смысле популярный. Он являлся владельцем столичного особняка, имевшего почтовый адрес «дом №6 в переулке Ронсин» (impasse Ronsin). Одна из сторон принадлежавшего ему земельного участка выходила на улицу Вожирар, поэтому иногда можно встретить указание на нумерацию по этой улице, но следует иметь в виду, что корректный адрес связан именно с переулком Ронсин.

Если верить воспоминаниям Маргариты — а в этой части они, по-видимому, близки к истине — Адольф за нею особенно и не ухаживал. О том, что художник увлечён молодой провинциалкой, рассказал общий знакомый старшей сестры, далее подключилась мамочка, и дело удалось обтяпать довольно быстро. Маргарита не была увлечена мужчиной, назначенным матушкой ей в мужья, в её воспоминаниях словосочетание «серьёзный и добрый» («seemed grave and kind») являлось, пожалуй, единственной положительной характеристикой Адольфа. Ещё один раз она написала о его «таланте» и сделала это, по-видимому, из вежливости. Ну, в самом деле, нельзя же признаваться, что вышла замуж за бездарного пачкуна, правда? А вот характеристики иного рода, довольно двусмысленные по сути, рассыпаны на страницах мемуаров Маргариты во множестве. Перечислим некоторые из них, дабы написанное не выглядело голословным: «медлительный» («slow»), «безмятежный» («serene»), «достойный» («dignified»), «робкий» («timidity») и прочие. Все иные плюсы замужества — перспектива жить в Париже, приобретение определённой известности в среде столичной богемы, возможность хорошо проводить время — относятся уже не к личности мужа, а к его социальному статусу.
Чтобы закончить с характеристикой мужа, приведём ещё парочку цитат [сугубо для полноты картины]:» (…) мой муж редко доводил до конца идею или план и был одержим непреодолимым страхом перед любыми окончательными решениями.» (» (…) my husband seldom went to the end of an idea or a plan, and was possessed of an unconquerable dread of all final decisions.») И далее: «Ему было сорок; мне было двадцать. Он был тих, равнодушен, легко удовлетворялся, сравнивал жизнь с неприятной пилюлей, которую каждый должен проглотить… Философия моего мужа меня нисколько не привлекала.» («He was forty; I was twenty. He was quiet, indifferent, easily satisfied, compared life to a disagreeable pill which every one must swallow… My husband’s philosophy did not appeal to me in the least.» (здесь и далее цитаты по Marguerite Steinheil, «My Memories», New York, «Sturgis & Walton company», 1912 год)
Согласитесь, звучит всё это как-то совсем не воодушевляюще, не правда ли?
После бракосочетания 9 июля 1890 года молодые отправились в свадебное путешествие в Италию. Предполагалось, что романтическая поездка продлится месяц. Однако через 10 дней Маргарита примчалась обратно к мамочке и заявила, что не хочет больше семейной жизни. Однако свинарник на 100 голов надлежало достроить, и поэтому… ну, вы поняли.
Переезд в Париж оказался связан с неприятными открытиями. Во-первых, выяснилось, что муж проживает постоянно с родной сестрой, также Маргаритой. Во-вторых, дом в тупике Ронсин не понравился молодой жене — мебель прошлого века, всё какое-то унылое и невесёлое. В её воспоминаниях есть чудный момент, связанный с бытовым шоком, если можно так выразиться — Маргарита была потрясена тем, что в доме мужа жарят лук и, соответственно, едят его! Представляете, какой ужас?!
Впрочем, не всё оказалось так уж печально. От сестры мужа Марго избавилась довольно быстро, устроив её свадьбу, а раздражавшую старую мебель Маргарита уговорила мужа отдать сестре в качестве приданого. Так молодая женщина открыла в себе талант сводни, и впоследствии устройство разного рода «партий», то есть подбор мужей, жён, любовников и любовниц тем, кто был в этом заинтересован, стало одним из главных её развлечений.
В доме Маргарита провела ремонт и купила мебель по своему вкусу. Жизнь явно стала налаживаться!

В июне 1891 года у супругов родилась дочь Марта. После этого произошло нечто такое, что Маргарита Штайнхаль не пожелала объяснить в своих воспоминаниях — она решила оставить мужа и даже уехала с малышкой из Парижа в Бокур. Сразу следует пояснить, что этот демарш не преследовал цель добиться истинного развода с Адольфом Штайнхалем — это был всего лишь шантаж мужа угрозой развода. К этому времени в числе лучших друзей Маргариты уже числился один из генеральных прокуроров (таковых во Французской республике было несколько, они закреплялись за различными ведомствами и выполняли иные функции, нежели в англо-американском праве). Именно этот друг и обеспечил Маргариту необходимой ей юридической консультацией относительно того, как лучше «надавить» на мужа. Судя по всему, генеральный прокурор являлся любовником Маргариты, хотя этого она никогда не признавала [хотя и признавала получение от него дорогостоящих подарков, прежде всего ювелирных украшений]. Достойно упоминания то обстоятельство, что таинственный генеральный прокурор был многолетним другом художника, и Маргарита познакомился с ним как раз благодаря мужу.
Адольф быстро сдался, и далее брак продолжался всецело на условиях Маргариты. Что это были за условия? Супруги стали жить, что называется, «открытым домом». Маргарита держала «салон», то есть принимала гостей, с которыми вела умные и не очень разговоры, и предавалась тому, что можно назвать «светской жизнью». В своих воспоминаниях она написала об этом так: «Я много развлекалась, давала вечеринки, концерты, обеды. Раз в неделю я устраивала приём, и между двумя и семью часами через салоны виллы в тупичке Ронсин проходило от трёх до четырёх сотен человек.» («I entertained a great deal, gave parties, concerts, dinners. I held a reception once a week, and between two and seven three to four hundred persons would pass through the salons of the villa in the Impasse Ronsin.») Обратите внимание на то, что говоря о развлечениях и приёмах, Маргарита пишет о себе в единственном числе, то есть этим занимались не супруги вместе, а именно она. Но, разумеется, на деньги Адольфа…
И, пожалуй, есть резон привести ещё одну цитату, последнюю, дабы не обременять более читателя соком мозга этой женщины. Итак: «Парижская жизнь, блестящая и изнурительная, напряжённая и искусственная, была, прежде всего, опьяняющей, и такое опьянение мне было необходимо… Остроумие, культура, вкус, полёт фантазии столь многих мужчин и женщин вокруг меня, их энтузиазм, их сочувствие, их разговоры, их качества и даже их недостатки стали мне необходимы.» («The Parisian life, brilliant and exhausting, strenuous and artificial, was above all intoxicating, and I needed such intoxication… The wit, the culture, the taste, the flights of fancy of so many men and women around me, their enthusiasms, their sympathy, their conversations, their qualities, and even their defects, became necessary to me.»)
Помимо «открытого дома», чета Штайнхаль в интимной жизни стала придерживаться стратегии «открытых отношений». Ни один из супругов не вмешивался в личную жизнь другого, не пытался его контролировать и ставить какие-либо ограничения. От сексуальной жизни супруги не отказывались, хотя нетрудно догадаться, что таковая быстро пошла на убыль — каждый был волен искать партнёров на стороне, разумеется, если имел такое желание. В течение 1890-х годов Маргарита поддерживала интимные отношения с широким кругом мужчин — строго говоря, она имела любовников постоянно — и потому неудивительно, что довольно быстро получила специфическую известность.
Именно благодаря этой специфической известности с нею надумал сблизиться президент Фор. Адольф Штайнхаль получил заказ на картину, изображавшую президента республики и ряд высокопоставленных офицеров во время манёвров, и художник для выполнения эскизов несколько раз посетил Елисейский дворец, резиденцию Феликса Фора. Между ними установились вполне дружелюбные отношения, разумеется, не исключавшие подчинённость Адольфа, выступавшего в роли исполнителя коммерческого заказа. После того, как картина была готова, президент приехал в дом художника, дабы посмотреть на его работу. Само собой, был устроен приём, на котором хозяйка дома блистала и очаровывала.
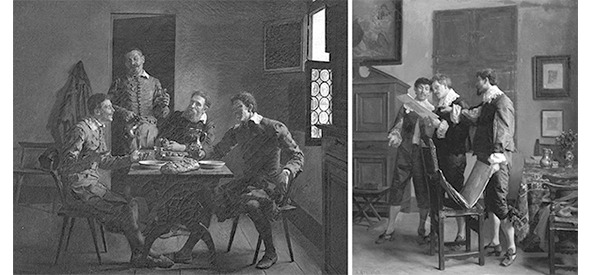
Произошло это памятное событие в январе 1898 года, и именно с того времени Маргарита Штайнхаль сделалась любимой любовницей [уж простите автору эту тавтологию!] любвеобильного Феликса Фора. Последний также жил в супругой Бертой в формате «свободного брака». Маргарита была представлена семье президента, тепло общалась с его женой и обеими дочками и даже проживала с ними в одном отеле во время поездок Фора по стране. Наивные советские люди шутили про «шведские семьи», но советские люди ничего не знали о «французских семьях» — вот уж где воистину существовал простор для шуток разной степени скабрёзности.
Дабы дать представление об уровне интеллектуального развития Маргариты Штайнхаль, её вкусе и этических представлениях, можно привести два примера, которые многое о ней скажут.
Первый пример связан с тем, как Маргарита Штайнхаль рассказала о своих отношениях с Феликсом Фором в мемуарах, изданных в 1912 году. Если кто-то подумал, что она честно призналась в сексуальной подоплёке интереса президента к собственной персоне, то сразу внесём ясность — этого не случилось. Она изображала из себя благородную даму, каковой не являлась в действительности, и потому начисто отвергла плотский характер связи с женатым мужчиной. По её словам, Феликс Фор нуждался в ней как в друге и поэтому давал деликатные поручения, за которые не мог взяться сам. Она появлялась в различных местах, где представляла Президента Французской республики и говорила от его имени. Согласитесь, звучит совершенно абсурдно! Чтобы верховный правитель государства передал право говорить от своего имени не министру иностранных дел, а какой-то, прости Господи, звезде гламура из приграничной деревни… ну, согласитесь, подобное предположение звучит совершенно нереалистично!
Однако самая смешная часть объяснения связана даже не с этой чепуховой выдумкой, а с другой — ещё более чепуховой.
Маргарита попыталась уверить читателей в том, будто вместе с президентом Фором она писала… мемуары президента Фора! Да-да, именно так — они якобы сначала обсуждали некий фрагмент воспоминаний, а затем часть фрагмента писал Фор, а часть — Маргарита. Понятно, что человек, сказавший такое, не имел понятия о том, как в действительности пишут большие тексты коллективы авторов, и сам ничего никогда не писал. Поверить в то, что Президент Французской республики взял в соавторы женщину, никогда ничему не учившуюся и даже не закончившую школу, может только… не знаю даже, кто может поверить такому.
В данном случае особый интерес для нас представляет очевидное скудоумие Маргариты Штайнхаль, которая всерьёз решила, будто её очень-очень наивная выдумка способна действительно кого-то обмануть. Эта женщина, по-видимому, была очень невысокого мнения об умственных способностях окружающих — столь любопытная черта свидетельствует не только о её нарциссизме, но и об отсутствии здравомыслия. Иногда малообразованный человек может быть очень разумен и даже мудр — всё-таки ум — это не просто сумма знаний! — но иногда неуч воистину туп, как сибирский валенок. И Маргарита Штайнхаль была из числа именно таких неучей. Запомним сейчас этот вывод — в дальнейшем мы увидим, как отмеченное свойство выражалась в её делах и словах.
Другой исключительно интересный момент, много говорящий о мышлении и воспитании Маргариты Штайнхаль, связан с её характеристикой Российской императрицы Александры Фёдоровны (до брака — Алиса Гессенская). Во время государственного визита Высочайшей семьи во Францию в 1896 году Штайнхаль увидела Государя Николая II и его супругу воочию. Разумеется, никто не представлял императору жену какого-то там реставратора витражей, но в толпе встречающих российскую делегацию Штайнхаль своё место получила. Описывая Верховных правителей России, Маргарита небрежно упомянула о» (…) довольно жалкой красоте Императрицы всех русских» (дословно:» (…) rather pathetic beauty of the Empress of all the Russians»).
Воистину, когда глупец начинает говорить о других, он всегда говорит о себе самом! Александра Фёдоровна, жена Государя Николая Александровича, всеми признавалась за женщину необычайной тонкой красоты и врождённого изящества. Именно своей незаурядной внешностью она пленила будущего мужа, который до момента личного знакомства не рассматривал её как возможную «партию». И воистину необыкновенную красоту этой женщины Штайнхаль умудрилась назвать «жалкой»! Саморазоблачительная сентенция! Просто посмотрите на фотографии этих женщин, сделанные приблизительно в одинаковом возрасте, и сделайте собственный вывод об их внешности.

Замечание Маргариты Штайнхаль о «жалкой красоте» российской императрицы ясно свидетельствует об отсутствии у француженки даже элементарного воспитания, такта и вкуса. Но, кроме того, Штайнхаль продемонстрировала свою желчность, завистливость и неспособность преодолевать дурные позывы. Она ведь могла ничего не писать о внешности Александры Фёдоровны либо отметить сугубо формальные, так сказать, детали внешности — бриллианты, причёску, осанку — без каких-либо обобщений. Но внешность Александры Фёдоровны, по-видимому, до такой степени уязвила непомерное самолюбие Штайнхаль, что та не удержалась от плевка. Она не могла сделать это прямо, непосредственно на месте встречи, но уступила порыву спустя почти 20 лет при написании воспоминаний.
Очень саморазоблачительно, согласитесь!
После этого отступления — очень важного для правильной оценки событий, которым посвящён этот очерк — возвратимся к изложению обстоятельств скоропостижной смерти Феликса Фора.
Итак, вечером 16 февраля 1899 года в Елисейском дворце рядом с Президентом Французской республики в весьма интимной обстановке действительно находилась женщина, чья фамилия начиналась на букву «S». Этой женщиной являлась Маргарита Штайнхаль.
Как отмечалось ранее, обстоятельства того дня были дотошно восстановлены по горячим следам службой безопасности «Сюртэ», и потому мы довольно хорошо представляем последовательность событий того дня. В своём месте будет объяснено, как материалы, собранные Октавом Хамаром, стали достоянием гласности — сейчас этого делать не следует во избежание создания спойлера.
В день смерти Фора его любимая любовница не намеревалась с ним встречаться вообще. Во-первых, она плохо себя чувствовала, а во-вторых, ей предстояло позировать для портрета [сие чрезвычайно утомляло Маргариту Штайнхаль]. В течение дня ей трижды звонили из Елисейского дворца и настоятельно рекомендовали приехать на рандеву с президентом. В ходе первого телефонного разговора с Ла Галлем, секретарём Фора, Маргарита заявила, что приехать не сможет, при этом она сослалась на причины, упомянутые выше. Второй телефонный звонок сделал президент лично, по его голосу и интонациям Маргарита поняла, что Феликс Фор находится в состоянии наркотического опьянения. Президент был возбуждён и несколько раз повторил, что Маргарита ему «нужна». По-видимому, кокаин «подогрел» половое влечение президента, и тот не желал напрасно терять сексуальный порыв. Впрочем, подобные пустяки мало интересовали Маргариту. Любимая любовница сообщила Фору, что не готова встречаться с ним и, хотя президент настаивал на необходимости увидеть её, Маргарита решительно отказала. Она думала, что на этом всё закончится, но около 18 часов опять позвонил Ла Галль и без лишних церемоний сообщил, что её приезд совершенно необходим и боковая калитка в ограде Елисейского дворца, через которую Штайнхаль обычно проходила, будет открыта с 18 часов.
Маргарита поняла, что это приказ и увильнуть она никак не сможет. Извините автора за низкий слог, но шлюха есть шлюха вне зависимости от того, обслуживает ли она гонорейного матроса в каком-нибудь условном Гавре или президента Французской республики. Её сексуальные услуги — это товар, и она обязана его предоставить, тем более в том случае, если на этом настаивает vip-клиент. Грубо, но по существу абсолютно точно!
Маргарита прибыла в Елисейский дворец и прошла на территорию прилегавшего к нему парка через боковую калитку, как это всегда происходило и ранее. Президент встретил её в «своей» части дворца [помимо «президентского» крыла, во дворце существовало и крыло «жены президента», в каждом из которых находились свои парадные, рабочие и жилые помещения]. Секретаря Ла Галля на месте не было, вместо него рядом с президентом находился его пожилой слуга по фамилии Блондель. Примечательно, что согласно официальной версии тех событий именно Ла Галль был рядом с Феликсом Фором от начала заболевания последнего до момента смерти, однако в действительности это было не так.
Для интимных утех президент обычно приводил женщин в так называемую «голубую» гостиную — Фор никогда не позволял любовницам входить в свой рабочий кабинет — но именно в тот вечер в помещении гостиной проводился ремонт. Поэтому Фор повёл Маргариту в комнатку Блонделя — небольшой закуток рядом с канцелярией. Там не было ни дивана, ни даже сколько-нибудь удобного кресла, поэтому соитие могло иметь характер быстрого сексуального контакта без особых изысков. Дверь в комнату слуги была оставлена открытой, сам Блондель находился неподалёку [он несколько раз входил и выходил из канцелярии]. Сделано это было для того, чтобы Фор мог поддерживать связь со слугой голосом, благодаря чему последний имел возможность быстро сообщить Фору важную информацию [если бы в том возникла необходимость]. На самом деле объяснение о необходимости поддерживать связь голосом представляется довольно надуманным, гораздо вероятнее то, что Феликс Фор попросту являлся эксгибиционистом, и присутствие слуги, имевшего возможность наблюдать за сексуальными игрищами патрона, служило для стареющего Фора дополнительным возбуждающим фактором.
В момент орального удовлетворения с президентом, по-видимому, приключился апоплексический удар, он рефлекторно схватил Маргариту за волосы и с силой дёрнул несколько раз. Женщине пришлось бороться, прежде чем она освободилась от запутавшихся в волосах пальцев любовника, в процессе этой борьбы она поняла, что с Феликсом происходит нечто ненормальное, не имеющее отношения к пароксизму страсти. Перепуганная Штайнхаль выбежала из комнаты Блонделя и бросилась вон, слуга, соответственно, помчался к Фору. Блондель поднял и застегнул брюки президента и буквально на руках перенёс его в комнату отдыха, находившуюся позади рабочего кабинета. Там он уложил своего патрона на кушетку и только после этого стал звонить врачам.
Описанные события произошли немногим позже 19 часов. Феликс Фор скончался между 22 и 23 часами.
Всякое упоминание в официальных документах о присутствии Маргариты Штайнхаль в Елисейском дворце в то время, когда Феликсу Фору стало плохо, было сочтено недопустимым. Также никогда не упоминалось о том, что президент почувствовал себя плохо в комнате личного слуги в то самое время, когда ни секретаря, ни работников канцелярии не было поблизости — то и другое выглядело слишком подозрительно.
Вдова президента и его дочери поддержали официальную версию, хотя она, как видим, имела мало общего с правдой. Однако когда слухи об истинной картине произошедшего стали циркулировать в Париже, жених старшей из дочерей президента — Люси Фор — решил объясниться с нею. Этим женихом являлся Марсель Пруст, уже прославившийся к тому времени писатель, чья карьера находилась, что называется, на взлёте. Пруст рассчитывал услышать опровержение сплетен, порочащих светлое имя Феликса Фора, но к своему удивлению он услышал их подтверждение. Люси была в курсе похождений отца и… закрывала на это глаза. Марсель Пруст был до такой степени поражён цинизмом Люси Фор, что заявил о разрыве всяких отношений. Кроме того, он остановил работу над романом «Жан Сантей», который писал три последних года. Дело заключалось в то, что этот роман Пруст предполагал посвятить Люси Фор (и об этом все знали), однако в свете последних открытий посчитал невозможным это сделать. Роман этот так и остался не закончен, [его черновой вариант был издан только в 1952 году, спустя 30 лет после смерти Пруста].
Таким вот неожиданным образом смерть президента и его интрига с Маргаритой Штайнхаль отразились на судьбе старшей дочери Фора.
Несмотря на то, что официальная версия смерти Фора была поставлена под сомнение уже в первые недели после его ухода из жизни, власти делали хорошую мину при плохой игре и игнорировали острые вопросы газетчиков. 28 февраля Феликс Фор был предан земле на кладбище Пер-Лашез с отданием подобающих государственных почестей.

Что же последовало далее?
Как будто бы ничего. Маргарита жила вместе с Адольфом, супруги растили дочь Марту, и в их жизни вроде бы всё было хорошо. Художник много работал — начало XX-го столетия стало пиком его творческой активности. Связи жены очень помогали — Адольф не только выполнял многочисленные заказы частных клиентов, но и получал весьма выгодные государственные контракты.
Его отношения с женой оставались стабильны, при этом они договорились их формализовать довольно необычным образом. Если кому-то из супругов требовалось повидаться, он через слугу подавал «запрос» — записку, в которой объяснял причину встречи и предлагал удобное для этого время. По получении такого «запроса» другой супруг принимал решение и через слугу передавал письменный ответ.
Интимные отношения между супругами не прекращались, но они осуществлялись также посредством подачи соответствующих «запросов». Это важная деталь, на которой сейчас необходимо сделать акцент. Хотя практика написания записок может показаться на первый взгляд абсурдной, в действительности она была вполне здравой. Поскольку супруги вели весьма активную половую жизнь с посторонними лицами, никто из них не желал попадать в неловкое положение из-за внезапного появления любимой «второй половинки».
Как свидетельствует житейский опыт, мудрый муж никогда не приходит домой внезапно, дабы не узнать лишнего. Во избежание, так сказать… Маргарита и Адольф устранили проблему «внезапного появления», договорившись о необходимости перед каждой встречей подавать «запрос».

Можно ли было назвать брак этих людей счастливым? Однозначно нет, но этот брак был очень удобен обоим. В этом крылся залог его устойчивости и долголетия. Наши юные современники из «поколения ЕГЭ», научившиеся работать с браузерным переводчиком и прочитавшие полторы страницы из любой книги Марисы Раддер (Marisa Rudder), в этом месте наверняка назовут Адольфа Штайнхаля «cuckold» -ом, «sub» -ом («подчинённым») или «buttom» -ом («нижним»), однако явление, с демонстрацией которого мы только что столкнулись, намного сложнее. Понятно, что обормотов из «поколения ЕГЭ» сложному не учат и механизмы регулирования межличностных отношений гораздо сложнее прямолинейной «теории доминантности». Потому человеческая сексуальность намного запутаннее простых отношений подчинённости.
Следует признать, что многолетние сексуальные отношения состоящих в браке мужчины и женщины могут оказаться очень разнообразны и порой выходят далеко за те формальные границы, что очерчивает «теория доминантности». Согласно последней, люди независимо от половой принадлежности разделяются на три категории [высоко-, средне- и низкодоминантых], и если доминантность одного из супругов явно превалирует над доминантностью другого, то он подавляет партнёра и начинает творить всякое. То есть получается примерно тот вариант, который задорого продаёт несчастным американцам Мариса Раддер. Дабы более не возвращаться к этой женщине и её наукообразной писанине, замечу, что она в точности следует расовым бредням идеолога превосходства чёрной расы Луиса Фарахана — человека, который с полным правом может быть назван нацистом и которого надлежит судить. Однако в реальной жизни, а не в американском «сферическом вакууме» всё получается намного хитрее и запутаннее.
«Доминантность» не является константой — это тонкая настройка человеческой психики, которой люди могут до некоторой степени управлять. Причём некоторым это удаётся делать в весьма широких пределах.
Примеры того, как сексуальные потребности некоторых людей проявляют себя в реальной жизни, могут вызвать оторопь и поставить в тупик. Чтобы далеко не ходить за примерами, обратимся к нескольким хорошо известным сюжетам из отечественной истории. Давайте посмотрим на «брак втроём» Николая Алексеевича Некрасова, Авдотьи Яковлевны Панаевой и Ивана Ивановича Панаева. Эти очень странные отношения растянулись на 16 лет и продлились вплоть до смерти Ивана Панаева в начале 1862 года. Казалось бы, тут-то Некрасов и должен был воссоединиться с горячо любимой чужой женой, но… Нет! Без мужа отношения Авдотьи Панаевой и Николая Некрасова моментально расстроились, и они расстались. После чего Авдотья вышла замуж за публициста Аполлона Филипповича Головачёва. Этот замечательный публицист был младше неё на 11 лет.
Фантасмагоричненько, не так ли? Попробуйте, разберитесь, кто в этих трёхсторонних отношениях кем повелевал, кто был «верхом», а кто — «низом». Особенно примечательна следующая деталь: Панаева написала «Воспоминания», в которых много и едко комментировала отношения Ивана Тургенева и Полины Виардо, но при этом ни единым словом не прокомментировала собственную интимную жизнь. Знаете почему? Нет, вовсе не из скромности или стеснительности. Объективный пересказ того, чем, как и с кем занималась литературная семья Панаевых, а также откровенный комментарий к их проделкам превратил бы текст автобиографии в порнографию, которую невозможно было бы продавать открыто. И это не метафора Ракитина, написанное следует понимать буквально.
Вот другой пример «брака втроём», кстати, очень похожий — Владимир Маяковский и чета Бриков — Лиля и её любящий муж Осип. Семейные отношения Лили и Оси продлились 13 лет, из которых 7 были украшены присутствием в их квартире и спальне будущего выдающегося поэта Маяковского. И если кто-то подумал, что доминирующим в этих отношениях был Маяковский — ведь у него был громкий голос и на публике он держался весьма агрессивно — то поспешим внести ясность — это совсем не так.
Хотя ещё более выразительным и запутанным является пример Великих князей — Цесаревича Николая Александровича и его младшего брата Георгия Александровича, деливших между собой балерину Кшесинскую. Делили они её столь весело и самозабвенно, что старший, разъярённый пикантными шуточками на эту тему Георгия, известного весельчака и острослова, вышел однажды из себя до такой степени, что сбросил его с большой высоты в трюм императорской яхты, в результате чего Георгий получил сильный ушиб грудной клетки.
Кстати, запутанные близкородственные отношения вообще были весьма распространены в странах христианской цивилизации не только среди представителей образованного сословия, но и черни. Хотя, разумеется, являлись своеобразной «зоной умолчания». Широко распространённое в XIX столетии в России слово «снохачество» как раз таки означало интимные отношения снохи (то есть жены сына) со свёкром (отцом мужа). «Снохачество» исчезло с ростом урбанизации и распылением крестьянских общин, поэтому современный человек вряд ли поймёт истинный смысл пословицы «небось не лужа, останется и для мужа». А пословица эта как раз про «снохачество». Примерно из той же категории отношения кумовьёв (крёстных родителей), про которые в народе тоже любили пошутить («что за кума, коль под кумом не была», «красивая кума проживёт и без ума» и тому подобные). Вообще же, народные пословицы с сексуальным подтекстом — это позабытый ныне кладезь мудрости, не зря же в советское время в сборники пословиц и поговорок их не включали — в этих сборниках представлены подборки преимущественно про погоду да на тему «народ против угнетателей».
Подводя итог этому отступлению, хочется отметить следующее. Весьма часто формально моногамные браки таковыми не являются. И происходит это вовсе не по причине злонравия и распутства одного из членов семейного союза. Нет, для устойчивого поддержания такого брака никакого особого принуждения внутри пары не требуется — перед нами вполне осознанный выбор обоих.
Это очень важный для нашего дальнейшего повествования вывод, ибо будет совершенно неверно полагать, будто распутная Маргарита Штайнхаль мастырила бедолаге Адольфу рога, а тот беспробудно тосковал и пребывал в пессимизме, унижении и тоске. Нет, он нисколько не чувствовал себя униженным — его такой формат отношений полностью устраивал. В точности по ещё одной забытой русской пословице на сексуальную тему: «При старом муже молодая не тужит» [Маргарита была младше Адольфа на 17 лет, так что пословица в точку!]. И если говорить совсем уж начистоту, то есть такое сильное убеждение, что сам же Адольф и навязал Маргарите подобный формат отношений. Служило ли тому причиной низкое либидо Адольфа или некие девиации, ему присущие, не очень-то и важно для настоящего повествования.

В этом месте можно вспомнить внезапное возвращение Маргариты из брачного путешествия и призыв к матери «забрать её домой обратно». Маргарита поняла, что не очень-то интересна своему мужу, и это открытие её, по-видимому, сильно задело, однако многомудрая мамочка быстро объяснила дочери, что та сможет жить «открытым браком» и такое положение сулит ей массу плюсов. Вскоре Маргарита и сама убедилась в этом, так что брачный союз не только не распался, но вполне благополучно просуществовал почти 18 лет.
Всё, написанное выше — и про президента Феликса Фора, и про семейную жизнь Маргариты Штайнхаль — является лишь преамбулой — пусть и длинной, но совершенно необходимой — к тому криминальному сюжету, что представляет собой основное содержание этого очерка.
Строго говоря, именно теперь он и начинается.
Ранним утром 31 мая 1908 года — около 6 часов или немногим позже — в спальню Марты явился слуга Штайнхалей, если точнее, камердинер Адольфа. Звали его Реми Куйяр (Remy Couillard), он намеревался отдёрнуть шторы на окнах, но сделать этого не успел. Его остановил громкий женский крик: «Вор! Вор!» В первые мгновения Куйяр даже не понял, кто это кричит и кому адресован возглас. Потребовалось некоторое время, прежде чем слуга отдёрнул штору и понял, что именно происходит.
На кровати Марты лежала её мать — Маргарита Штайнхаль — с верёвкой на шее и руками и ногами, привязанными к изголовью и изножью кровати соответственно. Куйяр метнулся на веранду, до которой было недалеко, и там отыскал в корзинке со столовыми принадлежностями хлебный нож. Вернувшись в спальню Марты, Реми быстро разрезал верёвки, которыми были связаны руки, заведённые за голову, и освободил их. При этом путы на ногах и шее Куйяр почему-то не перерезал…
Оставив женщину в кровати, камердинер побежал к окну, распахнул его и стал звать на помощь. Телефон в доме Штайнхаля имелся, и потому совершенно непонятно, отчего Куйяр пренебрёг им и решил положиться исключительно на силу собственного голоса и острый слух добрых людей. Первым из числа таковых оказался 26-летний Морис Лекок (Maurice Lecoq), сосед, проживавший в доме №8, чей двор имел общую стену с садом при доме №6. В стене, разделявшей участки, существовала небольшая калитка, никогда не запиравшаяся. Услыхав крики камердинера, Лекок прошёл через калитку и поинтересовался причиной крика.
Узнав, что дом подвергся в ночное время вторжению воров, Морис бросился к входной двери через веранду, но войти не смог — замок оказался заперт. Куйяр, узнав об этом, посоветовал Лекоку пройти через кухонную дверь — та и впрямь оказалась открыта.
Момент этот представляется очень важным, и на нём необходимо сейчас сделать акцент. Через три недели в своих официальных показаниях полиции, данных 23 июня, Морис Лекок рассказал об этом в следующих выражениях: «Я подошёл к двери [кухни] со стороны тупика Ронсин и открыл её, подняв нижнюю щеколду. Затем я подошёл к двери кладовой, которую открыл, просто повернув ручку. Я прошёл через холл, где не заметил ничего необычного, затем поднялся на первый этаж. В конце лестницы я увидел дверь мадам. В комнате Штайнхаль, которую я никогда не видел, хотя она моя соседка. Она лежала на своей кровати. В то же время Куйяр отошёл от окна и подошёл к кровати.»
Итак, через минуту или две Морис вошёл в дом и увидел лежавшую в кровати Маргариту Штайнхаль. Её ноги всё ещё оставались привязаны к изножью кровати, кроме того, верёвка охватывала шею женщины, но руки уже были свободны, и она ими беспорядочно размахивала — эту подробность Лекок запомнил безошибочно. Очень интересной представляется следующая деталь: Лекок в ходе допроса сообщил, что поначалу принял Маргариту Штайнхаль за девушку лет 20, потом же после того, как та заговорила о муже и дочери, решил, что ей «примерно 26 лет», то есть как и ему самому.
Морис вместе с Реми освободил Маргариту от верёвок и прошёл по комнатам первого этажа. Он обнаружил облачённый в домашний халат труп мужчины в возрасте — это был Адольф Штайнхаль — на шее которого была затянута петля. Лекок прикоснулся к бедру трупа и почувствовал, что оно холодное. После этого он развязал петлю на удавке и снял верёвку с шеи убитого. Этот поступок Лекока представляется необъяснимым, впоследствии и сам Морис никакого рационального объяснения тому, что делал в те минуты, отыскать не смог.
Продолжив движение по комнатам, он обнаружил женский труп, лежавший поперёк кровати — это была Эмили Джапи, мать Маргариты.
План первого этажа дома №6 в тупике Ронсин, приведённый в тексте, поможет лучше понять местонахождение трупов и взаимное расположение комнат и предметов мебели.
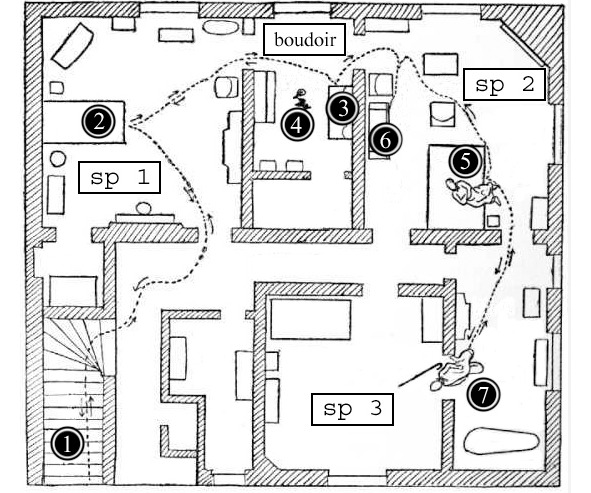
Примерно в ту самую минуту, когда Лекок и Куйяр таращились на мёртвое тело Эмили Джапи, в доме появились новые лица — соседи и первый полицейский, привлечённый криками камердинера.
Так дом №6 в тупичке Ронсин одномоментно превратился в известный всей Франции «дом смерти». Двойное убийство, совершённое в его комнатах в ночь с 30 на 31 мая 1908 года, стало одним из самых необычных в истории Парижа — города, история которого, вообще-то, весьма богата разного рода криминальными тайнами.
Очень скоро в дом в тупике Ронсин прибыл и Октав Хамар, уже упоминавшийся выше высокопоставленный сотрудник «Сюртэ». Именно Хамар проводил сбор информации по факту смерти президента Фора 16 февраля 1899 года. Теперь же он действовал уже не как контрразведчик, а как начальник уголовной полиции. Хамар лично провёл первые допросы и осмотрел место совершения преступления, хотя, разумеется, в доме работал не он один, а почти два десятка детективов и полицейских врачей.
Поскольку этот человек упоминался ранее и ещё встретится в последующем, следует сказать о нём несколько слов. Родился Октав в сентябре 1861 года, то есть на интересующий нас момент времени ему уже исполнилось 47 лет. Будучи выходцем из семьи судебного исполнителя из глухой провинции, он не имел возможности получить серьёзное образование, гарантирующее надёжный доход. Октав хотя и имел живой ум, отличную память и завидное телесное здоровье, явно не понимал, как ему жить и чем заниматься. Сначала он поступил в армию, но, отслужив несколько лет унтер-офицером в артиллерийском полку в Орлеане, понял, что эта стезя не для него. Демобилизовавшись, Хамар в ноябре 1887 года купил лицензию на осуществление нотариальной деятельности в Париже.
К тому времени ему уже исполнилось 26 лет, и перспективы на будущее представлялись Хамару, должно быть, весьма туманными. По здравому размышлению он решил устроиться в полицию и предложил свою кандидатуру на должность секретаря (делопроизводителя) полицейского участка. Октаву удалось получить рекомендательные письма от двух сенаторов, депутата городского собрания и главы муниципалитета — это помогло ему 23 февраля 1888 года поступить на должность помощника секретаря полицейского участка. Через 14 месяцев — в конце апреля 1889 года — его назначили секретарём полицейского участка.
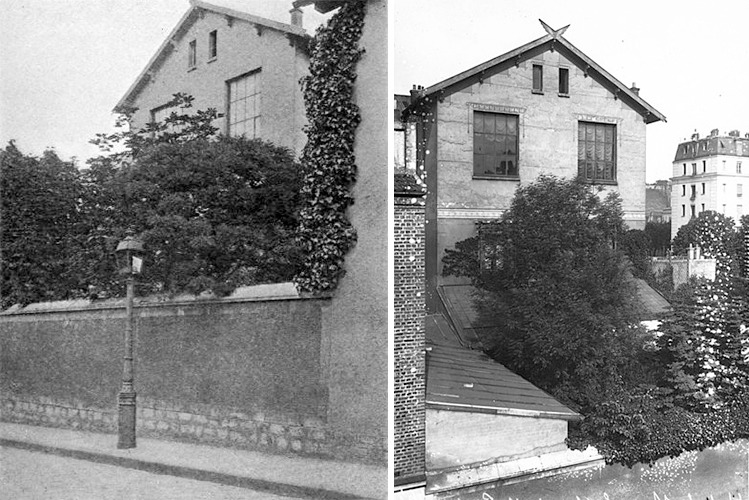
Хамар так бы и остался, скорее всего, никому не известной «чернильной душой», коих в тогдашней столичной полиции имелось немало, если бы не драматический случай, резко изменивший его карьеру. В июле 1889 года произошёл пожар на фабрике фейерверков, грозивший столице и её жителям самыми серьёзными неприятностями. Однако распорядительность Хамара, появившегося на месте происшествия одним из первых и приказавшего пробить стену, мешавшую подвозу бочек с водой, позволила минимизировать ущерб. Инициативность Хамара и присущая ему быстрота принятия решений были замечены и отмечены — его наградили серебряной медалью 2-й степени и назначили 25 июля 1889 года секретарём Управления полиции.
Это была уже весьма заметная и ответственная должность. В течение нескольких последующих лет Октав неустанно работал, оправдывая оказанное ему высокое доверие, и в июле 1893 года руководство столичной полиции рекомендовало министру внутренних дел рассмотреть вопрос о назначении Октава на должность комиссара в «одну из особых служб». В июле 1894 года Хамар был зачислен комиссаром в штат контрразведки (службы безопасности). Именно Хамар 12 июля 1898 года арестовал майора Фердинанда Эстергази (Charles Marie Ferdinand Walsin Esterhazy), того самого, кто вошёл в историю Франции своей причастностью к знаменитому «делу Дрейфуса» [тогда же Октав арестовал и его любовницу по фамилии Пэйс (Pays)]. А в ночь на 17 февраля следующего 1899 года Октав во главе подчинённой ему бригады контрразведчиков провёл в Елисейском дворце дознание по факту смерти президента Феликса Фора, о чём в своём месте уже упоминалось.
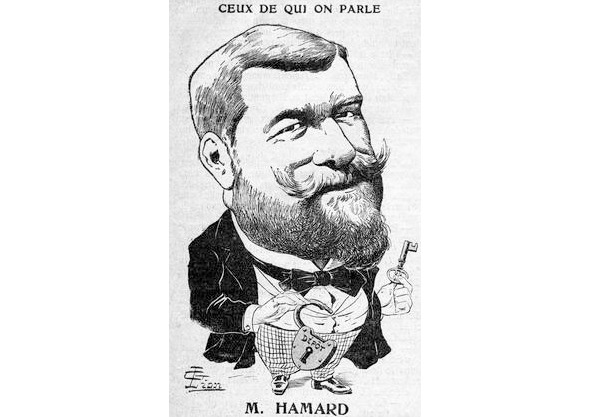
На контрразведывательном поприще Октав Хамар проявил себя с наилучшей стороны и в конце мая 1902 года стал заместителем начальника службы, а ещё через полгода — в ноябре 1902 года — её начальником. Совсем скоро — через 11 месяцев, в октябре 1903 года — Октав получил чин дивизионного комиссара и возглавил службу охраны, занимавшуюся госохраной руководителей государства и важнейших объектов госуправления.
В эти годы Хамар много работал с представителями дипломатической миссии Российской империи во Франции и сотрудниками российского корпуса жандармов. Последние вели слежку за политическими эмигрантами из России и занимались подрывной работой, направленной на развал и стравливание революционных ячеек и групп. Заслуги Октава на этом поприще были оценены российскими властями достаточно высоко — в декабре 1904 года он был удостоен российского ордена Святого Станислава 3-й степени.
Успешно поработав на ниве государственной охраны, Октав получил новое важное назначение — он в 1907 году возглавил столичный уголовный розыск. Подобное назначение не являлось понижением — этот перевод был осуществлён в рамках принятой во Франции тех лет практики регулярной ротации руководящих кадров правоохранительных органов для уменьшения риска создания устойчивых коррупционных связей. Логика в таком методе профилактики коррупции имеется, но сейчас он практически нигде в мире не используется в силу самых разных специфических причин [главная из которых — стремление не раскрывать назначенцам из других ведомств кадры агентурно-осведомительского аппарата и системы конспиративной связи с ними].
Первоначальным осмотром места совершения преступления было установлено следующее:
— преступники проникли в дом через веранду, выходившую в небольшой сад;
— замок на двери веранды был открыт посредством использования отмычек, на что указывали узнаваемые царапины на металле;
— первой, по-видимому, подверглась нападению Маргарита Штайнхаль [спальня дочери, в которой легла спать женщина, находилась ближе прочих помещений к лестнице, по которой поднялись из веранды преступники];
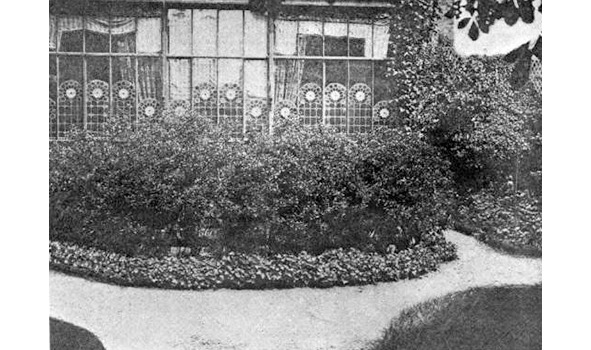
— Адольф Штайнхаль, облачённый в толстый халат, был убит на пороге из своей спальни в ванную комнату, тело выглядело так, будто мужчина сначала опустился на колени и во время агонии откинулся назад [ноги трупа остались подогнуты];
— на удалении 1,2 метра от трупа хозяина дома лежал ледоруб с короткой ручкой, похожий на те, что в начале XX столетия использовались при восхождениях в горы, его принадлежность установить сразу не удалось, впоследствии выяснилось, что этот предмет принадлежал Адольфу Штайнхалю;
— для убийства Адольфа Штайнхаля был использован 3-метровый обрезок шнура толщиной 8 мм, который набросили мужчине на шею сзади;
— полицейский врач по фамилии Пух (Puech) изъял верёвку, использованную для связывания Маргариты Штайнхаль, и кляп из куска ваты, вставленный ей в рот, с целью последующего изучения этих улик [кляп лежал на подушке, по словам Маргариты Штайнхаль, ей удалось его выплюнуть];
— далее последовало нападение на Эмили Джапи, мать Маргариты, и её связывание в спальне дочери [Маргарита уступила матери свою спальню, а сама перебралась в спальню Марты];
— Эмили Джапи оказалась связана идентично тому, как это было проделано в отношении её дочери Маргариты — руки заведены выше головы и по отдельности привязаны к решётке в изголовье кровати, на шею наброшена скользящая петля, в рот вставлен кляп из куска ваты;
— Эмили Джапи, по-видимому, пыталась освободиться и встать с кровати, в какой-то момент ей удалось освободить ноги и повернуться в кровати так, что они стали свешиваться, немного не доставая до пола, но затянувшаяся петля вкупе с кляпом, вставленным глубоко в рот, привела к удушению женщины;
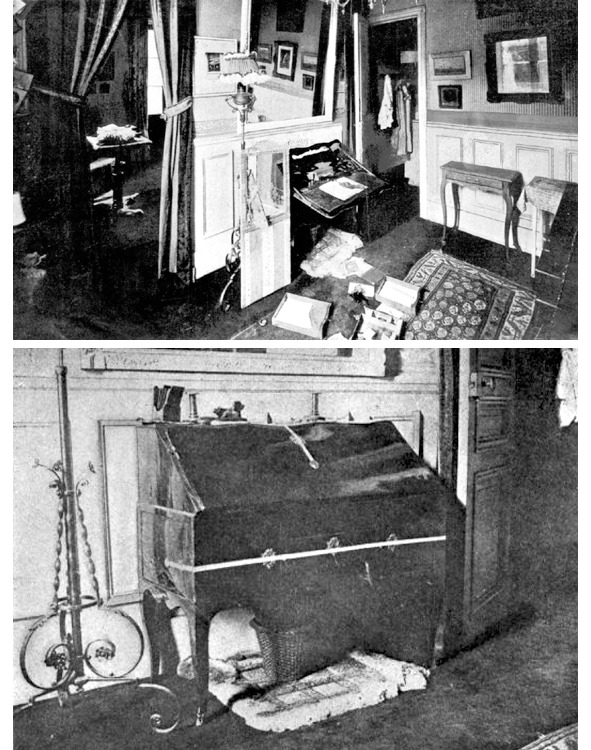
— бюро, находившееся в будуаре между спальнями Марты и Маргариты Штайнхаль, было раскрыто и, очевидно, подверглось грубому обыску;
— в том же будуаре на полу перед бюро лежал ворох бумаг и коробок, по-видимому, извлечённых из бюро, и среди них большой кусок ваты, похожей на ту, что использовалась в качестве кляпов для Эмили Джапи и Маргариты Штайнхаль.
— хотя в целом обстановка на месте преступления соответствовала картине ограбления, детективы обратили внимание на то, что грабители не взяли большое количество материальных ценностей, находившихся на видных или в легко доступных местах, в частности, золотые часы и кошелёк Адольфа Штайнхаля с 80 франками внутри, банкноту в 50 франков в обысканном будуаре, драгоценности Эмили Джапи, оставленные на подносе у кровати [три кольца, бриллиантовую брошь, две золотые подвески с бриллиантами и две булавки с маленькими бриллиантами], Ценные вещи Марты Штайнхаль, находившиеся в её комнате, также остались нетронуты, как и ряд других ценных вещей и украшений.
Доктор Пух, осмотревший трупы на месте их обнаружения, отметил, что процесс посмертного окоченения зашёл уже достаточно далеко. На основании этого наблюдения он сделал предположение о времени наступления смерти — произошло это в интервале от полуночи до 2 часов ночи 31 мая.
Детективы, затратившие много времени и сил на изучение внутренней обстановки дома, обратили внимание на то, что преступники осматривали бюро в будуаре между спальнями и стеллаж с постельным бельём в спальне Маргариты Штайнхаль [в той комнате, где был найден труп Джапи]. Если нападавшие являлись грабителями, то их интерес к этим предметам обстановки был понятен, но при этом вызывало недоумение полное игнорирование тумбочки, стоявшей в спальне Адольфа Штайнхаля. Вообще же, обстановка в спальне хозяина дома осталась нетронутой, и казалось, что преступники в эту комнату вообще не входили.
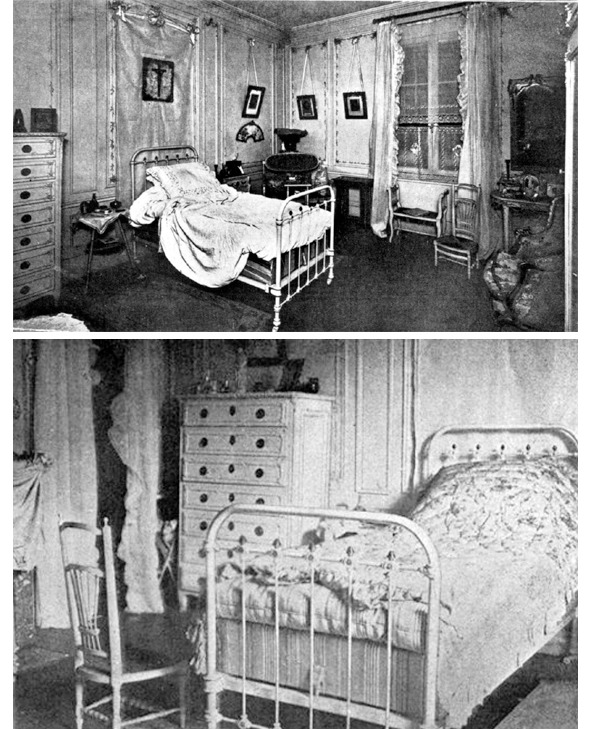
Что рассказали люди, находившиеся в доме в ночь нападения?
Реми Куйяр, спавший в комнате на третьем этаже, над мастерской художника, заявил полицейским, что ничего подозрительного ночью не видел и не слышал. По словам камердинера, обитатели дома коротали вечер на этой самой веранде — там находились как сам Адольф, так и его супруга Маргарита, а также её мать — Эмили Джапи. У последней сильно болели суставы ног, и она лежала на диване. Ужин был подан на веранду в 19:30, после него вся компания продолжала общаться. И уже перед отходом ко сну в 21 час вход в дом через веранду закрывал на замок сам Адольф Штайнхаль.
Во время допроса, проводимого Октавом Хамаром лично, произошёл любопытный инцидент, заслуживающий упоминания. Маргарита Штайнхаль, находившаяся в соседней комнате и, по-видимому, имевшая возможность слышать отдельные слова и фразы, неожиданно вмешалась в происходящее и спросила Куйяра, где находится револьвер. Быстро выяснилось, что Адольф Штайнхаль владел револьвером, который на время своих отъездов передавал Куйяру, а при возвращении в Париж забирал обратно. 30 мая, то есть менее чем за сутки до убийства, Адольф возвратился из городка Беллвью под Парижем и… пистолет почему-то не забрал. Куйяр так и сказал об этом Хамару, после чего запустил руку в свой синий рабочий халат, извлёк оттуда револьвер и передал его начальнику уголовного розыска. На вопрос, почему же камердинер не вернул пистолет своему патрону без напоминания, Куйяр простодушно ответил, что забыл это сделать.
Интересное совпадение, не правда ли? В ту самую ночь, когда хозяин дома остался без огнестрельного оружия, на него напали и убили, бывает же такое! И камердинер про пистолет не вспомнил, хотя тот мешал при ходьбе и всё время бил по бедру. Тот, кто долгое время обращался с пистолетом и держал его при себе, знает, насколько это оружие неудобно при переноске без кобуры. Во-первых, смазанный ружейным маслом пистолет пачкает руки и одежду, во-вторых, он довольно тяжёл [даже небольшого калибра], оттягивает карман и мешает при ходьбе, в-третьих, он банально опасен, даже будучи поставлен на предохранитель. Неловким движением предохранитель можно сдвинуть, и тогда при извлечении пистолета из кармана или из-за пояса весьма вероятен неожиданный для владельца выстрел. Октав Хамар все эти нюансы, разумеется, хорошо знал, и потому его удивление полученным от камердинера объяснением хорошо понятно.
Но это было не всё! Хамар поинтересовался, была ли в доме собака, и Реми Куйяр ответил утвердительно, пояснив, что звали её Тёрк (или Турок, если переводить кличку на русский). Собака эта, однако, не нравилась Маргарите Штайнхаль, и та 29 мая распорядилась удалить её из дома, что Куйяр и выполнил прямо 30 мая. То есть буквально за 12 часов до трагедии дом остался без сторожевой собаки! Ещё одно интересное совпадение — второе по счёту после невозврата револьвера хозяину дома. Однако поспешим сделать важное уточнение — то, что Куйяр рассказал Хамару, была отнюдь не вся история, связанная с собакой в доме. Через несколько часов обитатели дома сделали кое-какие уточнения к сказанному камердинером, и история с удалением Тёрка заиграла новыми красками, о чём в своём месте будет сказано особо.
Маргарита Штайнхаль в своих показаниях, данных во время первого допроса 31 мая, сообщила, что 18 мая она вместе с дочерью Мартой уехала в Беллвью, где на протяжении нескольких последних лет они снимали на летнее время дом. С того дня и вплоть до 29 мая она в Париже не появлялась, но 29 мая ей пришлось приехать, чтобы встретить мать — Эмили Джапи. Она прибыла в Париж на несколько дней по делам сына Жюльена — тот собирался жениться, и от его имени надлежало сделать кое-какие распоряжения имущественного характера [сын не мог сделать это лично, поскольку проходил воинскую службу и командование части не отпускало его]. Встретив мать, Маргарита привезла её в дом №6 в тупике Ронсин.
На время проживания матери Маргарита предоставила ей для сна собственную спальню, а сама перебралась в комнату дочери — этот момент имеет некоторое значение, поскольку позволяет понять, почему потерпевшие оказались не на своих местах.
Утром 30 мая Маргарита отправилась в Беллвью, дабы проведать 17-летнюю дочь Марту, которая находилась там. Из дома она ушла немногим ранее 11 часов, в то же самое время Адольф Штайнхаль отправился из Беллвью в Париж, то есть муж и жена в тот день двигались по одному маршруту в противоположных направлениях. Маргарита пробыла с дочерью в Беллвью приблизительно до 16 часов и затем вернулась в столицу. По её словам, в 17 часов она вошла на веранду, где в это время пили чай Адольф и её мать — оба были веселы и очень оживлённо беседовали.
Октав Хамар, проводивший допрос лично, разумеется, поинтересовался у Маргариты, почему та 30 мая не занялась вместе с матерью решением тех дел, ради которых Эмили Джапи приехала в столицу. На это Маргарита ответила, что её мать немного изменила свои планы ввиду плохого самочувствия — у неё обострился ревматизм, сильно болели ноги, поэтому она решила заняться делами сына через несколько дней, в июне.
Продолжая отвечать на вопросы Хамара, женщина сообщила, что вечер 30 мая все трое — она, её мать и муж Адольф — провели вместе, отдыхая на веранде. Спать они отправились чуть ранее 9 часов вечера, Маргарита сразу же легла и быстро уснула. Разбудили её неизвестные люди, появившиеся в комнате посреди ночи, во сколько именно это произошло, Маргарита сказать не могла. Свет они не зажигали, а пользовались двумя фонарями, дававшими «узкий луч». По смыслу сказанного можно решить, что имелись в виду ручные электрические фонари, которые в 1908 году уже были в широкой продаже.
Маргарита не сразу поняла, сколько людей находится в спальне. Постепенно ей удалось сориентироваться, и она решила, что грабителей четверо — женщина и трое мужчин. Все были облачены в «чёрные платья», один из злоумышленников имел густую рыжую бороду, другой — чёрную. Голос, лицо и общее сложение женщины показались Маргарите смутно знакомыми, хотя она и не могла припомнить, кого именно они ей напоминают. По её мнению, она могла видеть женщину ранее в числе моделей, которых её муж приглашал в студию позировать.
Преступники сказали, что не причинят Маргарите вреда, если та не станет шуметь и скажет, где они могут взять украшения и деньги. Преступник, говоривший с нею, уточнил, что ему известно как о готовящемся переезде на лето из парижского дома за город, так и о том, что для этого переезда подготовлены наличные деньги. Кроме того, преступники оказались осведомлены о том, что недавно Адольф Штайнхаль удачно продал на аукционе несколько картин, а потому выручка от них должна находиться где-то в доме.
Маргарита, опасаясь за жизнь находившихся в доме людей и свою собственную, спорить не стала и рассказала преступникам о бюро в будуаре. В нём должны были храниться наличные деньги и кое-какие драгоценности. Через некоторое время неизвестные стали обсуждать между собой, что с нею делать. Женщина настаивала на том, что Маргариту нельзя оставлять в живых, однако главарь заявил, что убивать Маргариту незачем, поскольку она их толком не видела и опознать не сможет, а для того чтобы она не подняла раньше времени шум, достаточно заткнуть ей рот кляпом и набросить на шею скользящую петлю.
Преступника так и поступили. Один из них втолкнул в рот Маргариты клок ваты, а другой набросил петлю на шею и подвязал её к изголовью кровати, туда же — к решётке в изголовье — он привязал и руки Маргариты. Лодыжки женщины были привязаны преступниками к металлической решётке в изножье кровати. Преступник пояснил, что если женщина станет активно двигаться и попытается освободиться от пут самостоятельно, то петля на шее затянется сама собой и убьёт её.
Маргарите был задан вопрос о происхождении ваты и верёвки, использованной для её связывания. Женщина ответила, что в доме не было ваты и подобной верёвки — их преступники явно принесли с собой. Это, кстати, выглядело весьма логично, опытные преступники, отправляясь на подобное «дело», должны были озаботиться заблаговременной подготовкой материала для связывания жертв, дабы не терять время на поиск такового во время совершения нападения. Остаётся добавить, что для связывания Маргариты была использована верёвка диаметром 8 мм того же самого типа, что и та, которой оказался задушен её муж и связана мать.
Итак, что же последовало далее? Боясь пошевелиться, Маргарита пролежала в кровати до утра. Поскольку на её рот не была наложена повязка, она смогла выплюнуть кляп, который и был найден на её подушке.
Каков оказался материальный ущерб нападения? После осмотра бюро и всех мест, где могли находиться деньги и ценности, Маргарита Штайнхаль заявила, что исчезло около 470 франков (~1 тыс.$) в банкнотах и монетах, а кроме того, стоимость похищенных ювелирных изделий, по её оценкам, достигала ~1,65 тысяч франков (~3,55 тыс.$). Что и говорить — очень много! Особенно Маргарита горевала из-за исчезновения золотого с бриллиантами полумесяца, который стоил больше половины исчезнувшей «ювелирки». Перед сном она не убрала эту ценность в тайник в гостиной, а оставила перед зеркалом в уборной [вместе с тремя золотыми кольцами] — грабители их обнаружили.
Разумеется, Маргарите Штайнхаль были заданы вопросы об удалённой из дома собаке, и женщина сообщила детали, заставившие посмотреть на случившееся под неожиданным ракурсом. Она сообщила, что в доме долгое время жила сторожевая собака Дик, должным образом обученная и очень умная. Главное достоинство Дика заключалось в том, что пёс был тихим и подавал голос только в состоянии тревоги, а потому своим лаем никогда не отвлекал Адольфа Штайнхаля от работы. И вот 26 или 27 мая — в то самое время, когда Маргарита находилась в загородном доме в Беллвью — Куйяр увёл из дома Дика и вместо него привёл Тёрка.
Откуда появилась эта собака? Оказывается, она принадлежала дочери и зятю Мариетты Вольф, пожилой кухарки, обслуживавшей жителей дома №6. Тёрк оказался глупой собакой — кинологи о таких говорят: «Пёс-дурак», — и совершенно непригодной для проживания в доме. Он постоянно лаял, носился по комнатам, не реагировал на команды и 29 мая, вбежав в мастерскую Адольфа, лапами разорвал натурный эскиз большого витража, подготовленный для презентации. Художник пришёл в ярость — и, кстати, его можно понять! — и приказал немедленно удалить собаку из дома.
Что Куйяр и проделал. Утром 30 мая он увёл собаку, а Дика обратно не возвратил. Поэтому 30 мая дом №6 в переулке Ронсин оказался без сторожевого пса.
Итак, действия камердинера или его бездействие — это как посмотреть — по крайней мере дважды сыграли на руку грабителям. Во-первых, он не вернул револьвер хозяину дома, из-за чего Адольф Штайнхаль в момент нападения оказался совершенно безоружен. А во-вторых, камердинер убрал из дома обученную сторожевую собаку, что облегчило тайное проникновение преступников в дом. Можно спорить об умышленности или случайности этих действий, но то, что объективно они связаны именно с камердинером Куйяром, не могло быть поставлено под сомнение.
Впрочем, не менее подозрительно выглядела и хозяйка дома — Маргарита Штайнхаль. Её рассказ о пережитом нападении звучал… как бы это помягче выразиться? не совсем логично и совершенно недостоверно. И самый очевидный вопрос, на который в нём невозможно было найти ответ, сводился к незатейливой дилемме: зачем преступникам убивать двух человек и оставлять в живых третьего? Законы уголовного здравомыслия просты и непреложны — убивать надо либо всех свидетелей, либо никого!
Даже убийство одного человека обрекало преступников на гильотинирование, так чего ради им проявлять гуманность? Вообще-то, ещё в римском праве существовала вполне разумная норма «beneficium latronis non occidere», гласившая: «Благодеяние разбойника — не убить». Смысл этого постулата заключается в том, что Закон по определению считает преступника безнравственным и лишённым совести, но если тот демонстрирует в момент совершения преступления некие положительные черты, то их следует подмечать и признавать смягчающими вину.
В случае с Маргаритой Штайнхаль преступники явно проявили удивительное снисхождение. Но почему? Циничные и подлые людишки, настоящий сброд и человеческий мусор — они не могли быть милосердны «просто так». Может быть, они изнасиловали Маргариту и в знак своеобразной благодарности сохранили ей жизнь? Чуть выше было упомянуто про «благодеяние разбойника» — быть может, тут и есть то самое «благодеяние»? Впоследствии Маргариту спрашивали на разные лады о возможном изнасиловании, можно даже сказать, подсказывали такое объяснение, но женщина категорически отрицала какие-либо сексуальные поползновения в свой адрес. Тогда её попросили объяснить, чем же обусловлено милосердие жестоких убийц, и Маргарита вместо того, чтобы промолчать или ответить, что объяснений у неё нет, выдвинула довольно странную теорию. Из разряда тех, про которые можно сказать словами рекламного слогана: «Лучше жевать, чем говорить».
Маргарита заявила, что преступники, по-видимому, приняли её за дочь Марту, поскольку спала она в спальне Марты [сама же Марта в это время находилась в доме в Беллвью]. Соответственно, мать Маргариты — Эмили Джапи — преступники приняли за саму Маргариту. И убили её! То есть Маргарита настаивала на том, что преступники, во-первых, вовсе не испытывали лично к ней никаких милосердных чувств, а во-вторых, прекрасно ориентировались в доме. А стало быть, они следовали указаниям некоего наводчика.
Чтобы не ходить вокруг да около и не мучить читателя неопределённостью, сразу скажем, что это было совершенно недостоверное и даже глупое объяснение. Ни один разумный детектив полиции или прокурор по уголовным делам в подобную чепуху поверить не мог. Париж в начале XX столетия являлся, пожалуй, одним из самых криминализованных городов на европейском континенте. Население периферийных округов терроризировалось бандами «апашей» («le apaches»), молодёжных преступных групп, носивших яркие шарфы, туфли с острыми носами и одежду с начищенными до блеска металлическими пуговицами. «Апаши» всегда носили при себе ножи или кинжалы и пренебрегали огнестрельным оружием, как «немужским». Стабильно высокий уровень криминальной активности в Париже резко контрастировал с понижением таковой в центральной и южной Франции, устойчиво фиксировавшимся с 1820-х годов [то есть на протяжении восьми десятилетий!]. Парижская преступность «крышевала» проституцию, достигшую воистину чудовищных размеров. В 1903 году в Париже в официальных борделях числились 6418 проституток, однако число незарегистрированных «жриц любви» полицейские органы оценивали в 50 тысяч или даже более. Кроме того, огромное число женщин из малообеспеченных слоёв общества подрабатывали проституцией нерегулярно и ускользали от какого-либо контроля. Общее число мужчин и женщин, систематически занимавшихся сексом за деньги, полицейские органы оценивали в 300 тысяч человек — это огромное количество для города с числом жителей 2,8 млн. [более 10% населения!].
В Париже в начале XX столетия сложилась настоящая субкультура, связанная с сексом за деньги, разного рода девиациями и сексуальной вседозволенностью. Роскошный ресторан «Rat mort» («Дохлый таракан») являлся образцом гламура и очагом притяжения для зевак всего мира. Французские художники, ныне считающиеся выдающимися творцами — Морис де Фламинк (Maurice de Vlaminck), Людовик-Родо Писарро (Ludovic-Rodo Pissarro), Огюст Шабо (Auguste Chabaud) и многие другие — упражнялись в рисовании проституток и ночной жизни Парижа. Представители парижской богемы регулярно попадали во всевозможные скандалы, связанные с сексуальными эксцессами, что не только их не позорило в глазах многих жителей столицы, но лишь добавляло известности. Хрестоматийным примером такого рода можно считать осуждение 3 декабря 1903 года молодых парижских поэтов Жака д'Адельсворда-Ферзена (Jacques d’Adelsward-Fersen) и Альберта Гамелена де Воррена (Albert Hamelin de Warren) к 6-месячному тюремному заключению за действия, оскорбляющие общественную нравственность. Этот приговор принёс обоим литераторам, мало известным до того момента, славу в масштабах всей страны.
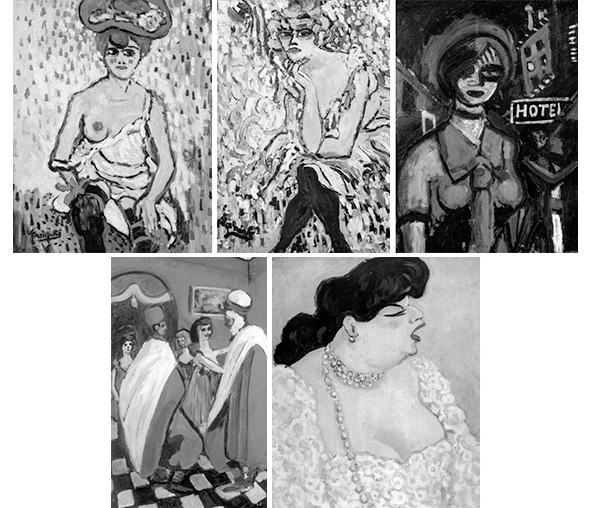
Нельзя не признавать того факта, что в Париже в начале XX столетия молодёжь вовлекалась в сферу оказания интим-услуг в очень раннем возрасте, и это была своего рода криминальная норма того времени. Профессиональные уголовники входили в число постоянных клиентов «жриц любви», и для них молодость проститутки являлась скорее достоинством, нежели помехой для удовлетворения плотских потребностей.
Если только преступники действительно проникли в дом №6, то юный возраст Марты никак не мог остановить их покушение на её половую неприкосновенность. Напомним, что девушке уже исполнилось 17 лет, и она, кстати, в те дни и недели планировала выйти замуж [о чём ещё будет сказано в своём месте]. Поэтому объяснение в стиле «грабители приняли меня за юную девушку и потому не посмели надругаться» звучит совершенно абсурдно. Если бы преступники действительно приняли Маргариту за «юную девушку», они бы непременно её изнасиловали!
При этом Маргарита Штайнхаль — женщина весьма далёкая от криминальных реалий того времени — явно не понимала бессмысленности того, о чём толковала. Октав Хамар и некоторые другие руководители уголовного розыска, присутствовавшие при допросе Маргариты Штайнхаль 31 мая — прежде всего инспекторы Пусэ (Pouce) и следователь магистратуры Лейде (Leydet) — остались до некоторой степени дезориентированы услышанным. Выражаясь метафорически, можно сказать, что у них концы с концами не сходились. Поскольку в ночь на 31 мая и сама Маргарита, и её 17-летняя дочь Марта — неважно кто именно находился в кровати! — безусловно, являлась для преступников сексуально привлекательным, и притом легко доступным, объектом!
Разумеется, особое внимание было обращено на связывание потерпевшей. Дело в том, что многочасовое крепкое связывание могло привести к некрозу тканей — это, вообще-то, очень опасное явление, чреватое ампутацией конечностей в силу далеко зашедшего кислородного голодания. Однако никаких некрозов у Маргариты не оказалось!
Утром 31 мая потерпевшую независимо друг от друга осмотрели доктора Пух (Puech), Куртуа-Суффит (Courtois-Suffit) и Лефевр (Lefevre). По её требованию был вызван семейный врач Ашерай (Acheray), знавший семью Штайнхаль на протяжении последних десяти лет, так что к трём упомянутым врачам затем добавился и четвёртый… И что же упомянутые врачи увидели?
Первый из поименованных — Пух — заявил, что вообще не находит «убедительных следов связывания». Куртуа-Суффит и Лефевр впоследствии утверждали, что на теле присутствовали следы сдавления и параллельные синяки, оставленные шнуром, но все они никакой угрозы здоровью Маргариты Штайнхаль не представляли. Если читатель носил когда-либо новые носки с плотной резинкой, то он наверняка обращал внимание на оставляемый ею след — действительно, сдавление ноги присутствует, но никакой угрозы для нормального кровообращения оно не несёт. И никакого некроза тканей вызвать не может… По-видимому, что-то подобное врачи отметили на руках и ногах Маргариты.
Ну, а что же с петлёй на шее? Ведь именно такая петля, завязанная на горле её матери, и задушила Эмили Джапи!
А, в общем-то, ничего… Верёвка, вроде бы замотанная вокруг шеи Маргариты Штайнхаль, соскочила сама собой. Во всяком случае никто — ни Куйяр, ни Лекок, ни кто-либо из появившихся на месте преступления после них — не признал того, что снимал петлю с шеи лежавшей в кровати Маргариты. Самое забавное заключается в том, что сама Маргарита не догадалась заявить, будто петлю она сняла с шеи самостоятельно. Если бы она дала такое объяснение, то никто не смог бы оспорить его — ну, в самом деле, сняла и сняла, боялась, что верёвка затянется при неосторожном движении и потому сразу же её сорвала. Но нет, Маргарита этого не сказала ни на допросе 31 мая, ни в последующие дни.
Впоследствии, когда ей стало, наконец-таки, ясно, что данный момент не может быть проигнорирован и требует объяснения, она такое объяснение предоставила. Чтобы не искажать его косвенной речью, приведём слова Маргариты Штайнхаль дословно [цитата из 14-й главы мемуаров Маргариты Штайнхаль]: «Я сама же заявила [полиции — прим. А. Ракитина], что шнур не причинял боли, когда я не двигала головой, и далее что он затягивался через ткань на шее, накрывавшей мою голову. Когда эту ткань, которая образовывала что-то вроде подушки на шее, сняли, шнурок, конечно же, соскользнул вниз и развязался.»
Потрясающе, не так ли? Если вы поняли всю глубину мысли Маргариты Штайнхаль, то автор этого очерка вас поздравляет, поскольку полицейские чины объяснения потерпевшей вообще никак не восприняли. Или, говоря проще, сказанному не поверили…
Допрос Маргариты Штайнхаль 31 мая был довольно продолжителен, и к нему по мере прибытия в дом №6 присоединялись должностные лица. В частности, помимо уже упомянутых выше Хамара, Пусэ и Лейде, при завершающей фазе допроса присутствовал окружной комиссар полиции Бушот (Bouchotte) и помощник прокурора Гранжан (Grandjean). Общее мнение всех должностных лиц, ознакомившихся с обстановкой на месте совершения преступления и первыми показаниями Куйяра и Маргариты Штайнхаль, можно выразить фразой из мультфильма «Следствие ведут колобки», превратившейся в своё время в мем: «Нич-чего не понимаю!»
Оценка ситуации ещё более запуталась после того, как полицейский криминалист извлёк замок из входной двери через веранду. Осмотр показал, что замок открывался подбором отмычек — на это явственно указывали свежие царапины, которые не могли быть оставлены ключом. Но для чего злоумышленники пользовались отмычками, если другая дверь — через кухню — была не заперта? Понятно, что грабители этого не знали — но именно это и показалось странным, поскольку профессиональный преступник перед проникновением в дом всегда обходит его кругом и осматривает двери и окна, проверяя, нет ли среди них открытых. Ему важно это знать до проникновения внутрь, поскольку открытое окно или дверь — это путь бегства как для него самого, так и для всех, находящихся внутри. В данном же случае получалось, что злоумышленники, пройдя через сад, сразу бросились открывать запертую дверь, не озаботившись проверкой двери по соседству, находившейся за углом буквально в десятке метров…
Это выглядело странно и свидетельствовало о непрофессионализме злоумышленников.
Надо сказать, что, помимо входной двери, злоумышленникам следовало преодолеть и калитку в глухой стене, отделявшей переулок Ронсин от придомового участка. От этой калитки существовало три ключа, один из которых держал при себе Адольф Штайнхаль, вторым распоряжалась повариха Мариетта Вольф [он был ей нужен для приёма продуктов], а третий хранился у Реми Куйяра. Последний потерял этот ключ приблизительно за два месяца до преступления. Маргарита Штайнхаль несколько раз упоминала об этом во время допроса, но особого впечатления на «законников» её слова не произвели. Те прекрасно понимали, что примитивный и грубый замок в калитке не мог явиться серьёзной преградой для преступников, сумевших беззвучно открыть дверь на веранду. Поэтому наличие ключа от калитки либо его отсутствие мало влияло на эффективность их действий.
Кстати, примерно так рассуждал и Адольф Штайнхаль, который, по признанию Маргариты, сделанном во время допроса 31 мая, несколько раз повторял ей, что старый замок в уличной калитке опытных преступников не остановит. А потому незачем беспокоиться из-за утраты одного из ключей!
После окончания допроса Маргарите Штайнхаль было разрешено уехать из дома, но Париж было предложено не покидать. Несколько дней она провела в доме подруги, но после похорон мужа и матери выехала в Беллвью, где и оставалась вместе с дочерью несколько следующих недель. В те июньские дни с ней практически ежедневно встречался инспектор полиции Пусэ, отвечавший на её расспросы о ходе расследования и уточнявший разного рода детали, требовавшие прояснения. Общение инспектора и Маргариты Штайнхаль носило характер неофициальный и, разумеется, не протоколировалось, а потому неудивительно, что в последующем они весьма различно о нём вспоминали.
Уже 31 мая и 1 июня — то есть в первые дни расследования — стали известны нюансы, заставившие детективов всерьёз задуматься над тем, не скрывает ли Маргарита Штайнхаль важную информацию и если да, то для чего она это делает? Поводов для такого рода подозрений появилось несколько.
Прежде всего, совершенно непонятной выглядела причина, по которой Эмили Джапи, мать Маргариты, оказалась в доме №6. Маргарита во время первого допроса заявила, будто приезд матери из Бокура обсуждался заблаговременно и первоначально та должна была прибыть в Париж 26 мая. Однако из-за болезни ног она отложила поездку и приехала лишь в 17 часов 29 числа. Такое объяснение поначалу удовлетворило полицейских, однако, как сообщили детективам сёстры Маргариты — старшая Джульетта (Juliette) и младшая Мими (Mimi) — а также её брат Жюльен, в действительности мать не имела намерения приезжать к Штайнхалям. Она желала остановиться в парижском доме Херров, старшей из дочерей. Маргарита, узнав об этом, закатила скандал и пригрозила разорвать все отношения с сестрой, если та «не отпустит» мать прожить в её доме хотя бы сутки. В подтверждение этих слов Джульетта Херр предоставила полиции два письма Эмили Джапи, написанные той незадолго до поездки в Париж. Содержание обоих вполне соответствовало тому, о чём рассказывали Джульетта, Мими и Жюльен.
Эмили Джапи, по-видимому, поражённая эмоциональным «накатом» Маргариты, уступила её требованию. Поэтому Маргарита, встретив мать на вокзале в 17 часов 29 мая, привезла её в дом в тупике Ронсин. Казалось бы, вот мамочка приехала — пообщайся с ней, ты же так на этом настаивала! Но нет… Утром следующего дня Маргарита ушла из переулка Ронсин и отправилась в Беллвью к дочери, которую не видела меньше суток. Обратно она возвратилась лишь в 7 часов вечера. Мать была вынуждена целый день провести в обществе зятя, точнее, даже не зятя — тот уходил из дома, о чём будет сказано ниже — а камердинера зятя и кухарки.
Получалось, что Маргарита не позволила матери провести время с другой дочерью, но при этом и сама не продемонстрировала желания общаться. Выражаясь метафорически, можно сказать, что именно поведение Маргариты стало причиной смерти Эмили Джапи, ведь если бы последняя по приезду в Париж отправилась в дом старшей дочери, то осталась бы жива.
Когда полицейские услышали этот рассказ, то, разумеется, бросились к Маргарите Штайнхаль за разъяснениями. Та отвергла версию событий, озвученную старшей сестрой, и заявила, что мать хотела жить именно в её доме, поскольку это большое и удобное здание, а кроме того, у неё всегда были прекрасные отношения с Адольфом, мужем Маргариты. В доказательство этих слов Маргарита Штайнхаль пообещала представить письма матери, написанные перед последней поездкой в Париж, но, как догадается всякий проницательный читатель, никто и никогда этих писем так и не увидел.
Маргарита впоследствии утверждала, что письма матери пропали после вторжения грабителей — не иначе, те прихватили их с собой. О достоверности подобного объяснения предоставим читателю судить самостоятельно.
Другой интересный момент, также потребовавший определённого выяснения деталей, оказался связан с драгоценностями убитой Эмили Джапи. Её старшая дочь во время полицейского допроса поинтересовалась, найдены ли ювелирные украшения, принадлежавшие матери. Вопрос поставил полицейских в тупик — Маргарита Штайнхаль об украшениях матери ничего не говорила! А ведь благообразная дама [притом вполне обеспеченная!] должна была иметь при себе ювелирные украшения.
Когда инспектор Пусэ при очередной встрече с Маргаритой Штайнхаль заговорил о судьбе украшений её матери, та отреагировала неожиданно остро. Она настаивала на том, что 31 мая никто из полицейских её об этом не спрашивал, а сама она не говорила, поскольку была уверена, что мать не нуждается в услугах посредника и при допросе сделает необходимое заявление полиции. Маргарита уверяла, что на момент допроса не знала об убийстве матери, и потому судьбу её драгоценностей не затрагивала, а когда узнала, то… тоже не затрагивала, поскольку ужасно горевала.

Рассказы о переживаниях и забывчивости Маргариты Штайнхаль не произвели на полицейских особенного впечатления. Октав Хамар хорошо знал эту женщину ещё по событиям, связанным со смертью президента Феликса Фора — с их изложения начинался этот очерк — а потому особых иллюзий насчёт эмоциональной ранимости Маргариты не испытывал. Выражаясь максимально деликатно, можно сказать так: Маргарита Штайнхаль совершенно не походила на женщину, способную забыть о семейных драгоценностях. Может быть, она и была неплохой актрисой, но обмануть Октава Хамара она точно не могла.
Чем занимался в последний день своей жизни Адольф Штайнхаль? Детективы уголовной полиции затратили некоторые усилия на установление всех деталей его времяпрепровождения, и в конечном итоге им удалось получить полную «картину дня» Адольфа. С утра он оставался дома и дождался ухода Маргариты, которая, напомним, уехала в Беллвью пригородным поездом, уходившим с Восточного вокзала в 11 часов. Во второй половине дня он отправился в банк «Credit Lyonnais», где снял со своего счёта 900 франков — это была довольно значительная сумма, эквивалентная 1935 долларам США. Этими деньгами он оплатил несколько счетов, появление которых было связано с его работой над витражами. После этого возвратился домой, где и дождался возвращения жены [Маргарита появилась чуть позже 19 часов].
Маргарита ничего не знала о походе мужа в банк, и когда ей об этом рассказали, она призналась, что не догадывалась о столь крупных расходах мужа, которые тот позволял себе в тайне от неё.
1 июня французская полиция умышленно допустила утечку информации, призванную повлиять на общественное мнение в нужном следствию направлении. В частности, репортёрам было сообщено, будто Адольф Штайнхаль был задушен кнутом, что не соответствовало истине. Кроме того, подчёркивалась «необычайная дерзость» преступников и немотивированная жестокость нападения. Важным элементом информационного вброса явилось указание на то, что в том же тупике Ронсин, неподалёку от места совершения преступления, располагалась круглосуточно работающая типография. Охранник и табельщик типографии в ночь убийства всё время находились в фойе и регулярно выходили на улицу — данная деталь была сообщена для того, чтобы в дальнейшем объяснить возможность опознания преступников без привлечения Маргариты Штайнхаль. Дескать, нападавших видели совсем другие люди…
Сообщая о значительной стоимости попавших в руки преступников ценностей, детективы следующим образом объяснили журналистам причину наличия в доме украшений и наличных денег — супруги готовились к отъезду из Парижа в загородный дом и собрали ценности в одном месте. Грабители, несомненно, были осведомлены о подготовке к отъезду, и полиция исходит из того, что внутри дома имелся их помощник.
После 1 июня публикации о событиях в «доме смерти» в тупике Ронсин пошли бурным потоком и в течение нескольких дней захватили не только европейскую прессу, но и североамериканскую.
В то же самое время — речь идёт о 1 июня и нескольких последующих днях — стала раскручиваться другая подозрительная история, которая, как тогда казалось, могла иметь отношение к трагедии в «доме смерти». Началось всё с того, что в 22 часа 31 мая контролёр парижского метрополитена по фамилии Вильман (Villemant) вошёл в вагон первого класса и обнаружил на полу две небольшие бумажки. По мнению контролёра, их уронил нетрезвый молодой человек в рабочей блузе, вышедший из вагона перед тем, как в него вошёл Вильман. Молодой человек держал в одной руке кошелёк, а в другой — горсть золотых монет, коими небрежно поигрывал.
Ну, ушёл и ушёл, бросив бумажки на пол, некрасиво, конечно, ну, да ладно… случается!
Вильман поднял бумажки и рассмотрел их. Одна из них — та, что поменьше — представляла собой визитную карточку некоей мадам Мазелин (Mazeline), довольно известной 62-летней художницы. Впрочем, контролёр метрополитена ничего об этой даме не знал и особого внимания на визитку не обратил. Вторая бумажка являлась пригласительным билетом на выставку-продажу картин Адольфа Штайнхаля, которая проходила в его мастерской в доме №6 в тупике Ронсин.
Вильман не знал, что делать с находкой, но подумал, что бумаги могут иметь некоторую ценность для потерявшего их, а потому решил их не выбрасывать. Контролёр принёс их в бюро находок и там-то услышал о двойном убийстве в переулке Ронсин. Утром 31 мая, когда Вильман шёл на работу, информация о трагедии в доме художника Штайнхаля ещё не попала в прессу, а вот вечером о случившемся уже знал Париж. Разумеется, за исключением тех людей, кто был занят работой и не отвлекался на чтение газет.
Работник бюро находок оповестил парижскую полицию о том, что найден пригласительный билет на выставку картин в доме убитого художника, но поначалу сообщение это особого интереса не вызвало. Крови на входном билете не было, какие-либо записи — отсутствовали, сам по себе кусочек картона с адресом и виньеткой в углу не являлся предметом уникальным — таких билетов напечатали по частному заказу штук 500, наверное, может, и больше… Мало ли кто и где решил выбросить ставшую ненужной бумажку? Пару дней никакой реакции от полиции не следовало, но 4 июня в бюро находок явилась пара детективов уголовной полиции и попросила показать, что же именно нашёл Вильман. Заодно детективы поговорили с самим контролёром.
Ничего особенно подозрительного детективы не увидели и не услышали, но решив довести проверку до логического конца, они забрали из бюро находок пригласительный билет и визитную карточку и направились к Мазелин.
Художница, увидав детективов, лишь всплеснула восторженно руками: «Жильбер только вчера рассказал мне о краже костюмов, а полиция уже идёт по следу! Какая же у нас замечательная полиция!» Детективы не поняли причины восторга, поскольку по следу не шли и о краже костюмов ничего не знали. Но поговорив с madam Мазелин, выяснили следующее. Костюмер Жильбер, её многолетний хороший друг, подготовил большую партию театрального реквизита для сдачи в аренду «Еврейскому театру» («Hebrew Theatre»), занимавшему дом №133 по улице Сен-Дени. Другое название этого заведения — «Театр Эдем» («Eden Theatre»). Реквизит включал в себя одежду, экзотические перья, головные уборы и прочее — всё это богатство было разложено по коробкам и большим корзинам общим числом 27 штук. 30 мая реквизит был доставлен в «Еврейский театр». И вот вчера — 3 июня — Жильбер получил сданный реквизит обратно, и оказалось, что в нём отсутствуют три чёрных платья и длинный черный плащ. На вопрос, где эти вещи, представитель театра ответил, что они были похищены ещё 30 мая, то есть при доставке в театр, и возвращены быть не могут.
Детективы продолжили проверку и посетили театр. Там они выяснили, что кража действительно имела место 30 мая и произошла по вине театральных работников — те, внеся в здание привезённые коробки и корзины, отправились пить кофе в соседнее бистро. За время их отсутствия кто-то вошёл в здание театра через незапертую дверь, переворошил содержимое и забрал несколько предметов.
Детективы не собирались заниматься расследованием этого инцидента — сие относилось к компетенции полиции округа, а не «Сюртэ» — но подготовили небольшую докладную записку, которую и передали Октаву Хамару. Остаётся добавить, что художница Мазелин признала принадлежность ей визитной карточки, найденной в вагоне метро, и даже заявила, что записи карандашом на её оборотной стороне — это были имена, фамилии и адреса трёх человек — сделаны ею. Вот только для кого она оставила эту запись, а также кому и когда передала визитку, женщина припомнить не смогла. По-видимому, это случилось довольно давно — несколько месяцев назад.
Итак, 4 июня начальник уголовного розыска Хамар получил довольно подробное сообщение о краже трёх чёрных платьев и чёрного плаща из «Еврейского театра», произошедшей приблизительно за 6 часов до двойного убийства в доме Адольфа Штайнхаля. Маргарита Штайнхаль, видевшая грабителей, сообщала, что те были облачены в некие платья-балахоны чёрного цвета, похожие на сутаны или рясы, кроме того, на плечи женщины был накинут чёрный плащ. Можно ли было считать, что в руки преступников попал реквизит, украденный в «Еврейском театре»? Учитывая довольно общий характер описания, данного Маргаритой Штайнхаль, отвергать такую вероятность не следовало. Но что это давало с точки зрения расследования? Похититель реквизита мог не иметь ни малейшего отношения к убийцам и даже, скорее всего, не имел — те могли приобрести одежду у скупщика краденого, а последний, узнав, что эта сделка связана с двойным убийством, никогда в ней не сознается, ибо такое сознание является прямой дорогой в тюрьму на долгие годы.
Поэтому большим вопросом являлась целесообразность расследования хищения реквизита в рамках поиска убийц Эмили Джапи и Адольфа Штайнхаля. Чтобы не томить читателя неопределённостью, сразу отметим, что Хамар не дал хода этому направлению, посчитав его не имеющим реальной перспективы. Тем более что у него в скором времени появился куда более перспективный вектор приложения сил, о чём в своём месте будет сказано.
Между тем история похищения одежды из «Еврейского театра» ещё всплывёт в этом очерке, и именно по этой причине случай этот рассказан с необходимыми деталями.
О каких ещё событиях начала июня 1908 года следует упомянуть?
Прежде всего, следует упомянуть о том, что тела убитых более суток оставались в доме №6 в переулке Ронсин. Причина задержки их вывоза не совсем понятна, никаких внятных объяснений этому автору найти не удалось. Тела Адольфа Штайнхаля и Эмили Джапи были вывезены в морг лишь во второй половине дня 1 июня — момент этот, кстати, был запечатлён фотографами, заполонившими подходы к «дому смерти» со всех сторон.

В своих мемуарах Маргарита Штайнхаль утверждала, что от неё скрыли факт увоза тел убитых спустя более суток с момента обнаружения факта преступления. Также она настаивала на том, будто ничего не знала о предстоящем судебно-медицинском вскрытии тел Эмили Джапи и Адольфа Штайнхаля. Представитель полиции якобы заверил её в том, что тело Джапи направлено в протестантский храм, а Штайнхаля — в католический, там они будут оставаться до момента похорон. Не совсем понятно, для чего Маргарита Штайнхаль делает в своих воспоминаниях акцент на этом, по-видимому, упоминание этих деталей должно убедить читателя в лицемерии уголовной полиции и готовности должностных лиц лгать ей, несчастной вдове. Современному читателю логика Маргариты покажется странной, поскольку следственные органы вообще не обязаны отчитываться о принимаемых решениях перед потерпевшими, но вдова, судя по всему, так не считала и всерьёз полагала, что полиция должна объяснять ей как причины своих действий, так и получаемые результаты.
Вскрытие тел убитых никаких сюрпризов не принесло. Можно сказать, что в обоих случаях результат оказался хорошо предсказуем. Причиной смерти Адольфа Штайнхаля явилась механическая асфиксия, обусловленная сдавлением шеи скользящей петлёй, наброшенной сзади. По-видимому, преступник подошёл к художнику сзади, набросил петлю и, взвалив мужчину себе на спину, некоторое время удерживал таким образом. Верёвка сначала глубоко врезалась в шею, а затем немного [приблизительно на 2,5 см] сдвинулась вверх. Подъязычная кость в результате сдавления шеи оказалась сломана.
Преступник удерживал Адольфа несколько минут до наступления смерти, затем поставил мёртвое тело на ноги, ноги согнулись, и тело завалилось назад, но не упало полностью на пол. Труп остался в полусидячем положении с подогнутыми в коленях ногами.
Телесных повреждений, свидетельствовавших о борьбе убитого с нападавшим, судебно-медицинское вскрытие не зафиксировало. Убийца, кем бы он ни был, действовал очень профессионально и функционально, если можно так выразиться — он допустил ровно ту степень насилия, которая требовалась для лишения жизни Адольфа Штайнхаля, и не более.
Время наступления смерти, судя по тому, что желудок Адольфа Штайнхаля оказался практически пуст, следовало отнести к полуночи или первым часам 31 мая. Согласно показаниям Маргариты Штайнхаль и камердинера Реми Куйяра, ужин закончился в районе 20 часов, после чего Адольф и Эмили Джапи ещё около часа пили кофе и ели десерт, так что убийство до полуночи представлялось невероятным. Судебные медики в первой половине дня 31 мая имели возможность наблюдать распространение трупного окоченения и, исходя из своих наблюдений, пришли к выводу, согласно которому убийство не могло произойти после 3—4 часов ночи.
Таким образом были получены границы интервала времени наступления смерти Адольфа Штайнхаля — после полуночи, но до 4 часов ночи 31 мая.
Судебно-медицинское вскрытие тела Эмили Джапи показало, что женщина страдала при жизни хроническими заболеваниями суставов, поджелудочной железы и ожирением сердца. Телесных повреждений, свидетельствовавших о побоях, вскрытие не обнаружило, если преступник и прибег к побоям, то без чрезмерной жестокости [пощёчины или чего-то подобного]. Также не было найдено указаний на сексуальную активность убийцы — как сексуальной объект потерпевшая убийцу явно не заинтересовала.
На запястьях рук находились петли с затянутыми узлами [тело доставили в морг, перерезав верёвки, удерживавшие руки и шею, но не сняв петель]. Сдавление было прижизненным и сильным — на это указывали почерневшие от прилива крови кисти рук. Петля на шее была затянута не так сильно, и, по мнению судмедэкспертов, просвет дыхательного горла сохранялся, позволяя дышать, хотя, конечно же, присутствие петли не могло не пугать связанную женщину.
На ногах в области икр и лодыжек присутствовали следы, оставленные скольжением верёвки. Как известно, в момент обнаружения тела ноги были свободны от пут и свешивались с кровати, немного не достигая пола, а в изножье кровати находился кусок шнура, привязанный с решётке. Всё это наводило на мысль о первоначальном связывании ног и их последующем освобождении после нескольких энергичных движений.
Причиной смерти явилось комбинированное воздействие нескольких факторов. В момент нападения женщина пережила инфаркт, а кроме того, её нормальному дыханию мешало затягивание петли на шее.

Реконструкция случившегося с женщиной выглядела, по мнению судебных медиков, примерно так: преступник или преступники первоначально наложили скользящую петлю, не сдавливавшую горло, после чего привязали руки и ноги к противоположным кроватным решёткам [в изголовье и изножье]. Эмили некоторое время оставалась относительно спокойна, однако в некий момент времени она стала волноваться, и чем дальше — тем больше. Возможно, она услышала звуки расправы над Адольфом Штайнхалем, возможно, её тревогу вызвали тугие узлы на руках и обусловленная этим боль в запястьях — что именно встревожило Эмили, сказать не представлялось возможным, но это, наверное, было и не очень важно.
В общем, женщина предприняла попытку самоспасения. Энергично двигая ногами, она сумела освободить их. По-видимому, чрезвычайно приободрённая этим успехом, Эмили попыталась сесть или неосторожно повернулась, в результате чего петля на шее затянулась, уменьшив просвет дыхательного горла. Произошедшее вызвало панику, женщина заволновалась и стала энергично дёргать руками, рассчитывая вырвать кисти из петель. Овладевшая женщиной паника спровоцировала инфаркт, быстро развивавшийся на фоне механической асфиксии.
В действительности удушение не было смертельным, и Эмили Джапи смогла бы дышать, если бы проявила больше самообладания и сдержанности, однако такие советы легко давать, сидя на диване и рассуждая сугубо умозрительно, в обстановке же реального стресса сохранить самоконтроль совсем непросто. Умирание Эмили растянулось минут на 10, возможно, даже более.
Строго говоря, её никто из преступников не убивал целенаправленно, хотя, разумеется, случившееся с Эмили Джапи находится в непосредственной причинно-следственной связи с действиями преступников, а потому уместно говорить именно об умышленном убийстве женщины, а не несчастном случае и тем более самоубийстве.
Тело Адольфа Штайнхаля было похоронено в семейном склепе на кладбище в городке Л'Э-ле-Роз (L’Hay-les-Roses), ближайшем пригороде Парижа, расположенном на удалении около 5 км от южной границы французской столицы. А тело Эмили Джапи было увезено в родной ей Бокур и предано земле там.
3 июня доктор Ашерай, следивший за состоянием Маргариты Штайнхаль, переехавшей к тому времени уже в дом графа и графини д'Арлон, сообщил ей о газетных публикациях, посвящённых трагедии в «доме смерти». Их подавляющая часть была выдержана в недоброжелательном для Маргариты Штайнхаль тоне, в её адрес высказывались подозрения разной степени откровенности, а общая обстановка такова, что многие прямо обвиняли Маргариту в случившемся. Продолжая свой рассказ, доктор заявил, что уголовная полиция намерена в ближайшее время провести ещё один допрос Маргариты и с этой целью интересуется его — Ашерая — мнением о допустимости такового допроса.
С этой самой поры, то есть со 2 или 3 июня, Маргарита Штайнхаль стала получать анонимные письма — чем дальше, тем больше! — авторы которых гневно обличали её в убийстве мужа и матери. Время от времени приходили и письма в поддержку Маргариты, но таковых было гораздо меньше. Письма приходили как в дом супругов д'Арлон, так и по адресу арендованной в Беллвью виллы «Vert-Logis». В последующие недели и месяцы Маргарита Штайнхаль получила большое количество анонимок — счёт им шёл на тысячи — но их абсолютное большинство не содержало никакой полезной для расследования преступления информации.
Допрос, о котором Маргариту предупреждал доктор Ашерай, состоялся 5 июня. Его провёл Октав Хамар вместе с детективом Лейде, который записывал сказанное Маргаритой. Темой допроса стало уточнение деталей, связанных с внешним видом пропавших украшений, а также внешним видом преступников. Маргарита накануне имела возможность изучить свои шкатулки, привезённые из дома в тупике Ронсин её дочерью Мартой, и уточнить перечень пропавшего. В общем виде список похищенных вещей состоял из 11 украшений Эмили Джапи и 7 украшений, принадлежавших самой Маргарите. В числе этих 7 предметов были названы 3 золотых кольца с драгоценными камнями стоимостью не менее 140 франков каждое (это 300 долларов США), а также золотой полумесяц, осыпанный бриллиантами, стоимостью не менее 900 франков (это приблизительно 1950 долларов США).
А 10 июня Хамар и Лейде допросили большую группу лиц, связанных как с владельцем пошивочного ателье Жильбером, так и «Еврейским театром». Допрошены были, в частности, как сам Жильбер, так и его помощница Жоржетта Ролле (Georgette Rallet), пошившая те самые чёрные платья, что были украдены сразу после их перевозки заказчику. Хамар хотел понять, насколько пропавшая одежда соответствует той, что была надета на преступниках, вторгшихся в дом Адольфа Штайнхаля.
Проводились в те июньские дни и кое-какие иные следственные действия. В частности, уголовная полиция постаралась отследить путь альпенштока, найденного в комнате Адольфа Штайнхаля. Этот предмет не имел следов крови, и, вообще, оставалось неясным, имеет ли он хоть какое-то отношение к преступлению. Однако альпеншток можно было использовать в качестве оружия, и Хамар хотел понять, принадлежал ли этот предмет хозяину дома или же злоумышленники принесли его с собой. Маргарита внести ясность в этот вопрос не могла — в комнате мужа она практически не бывала и имела весьма смутное представление о принадлежавших ему вещах [не забываем, что возможность встречи эти, с позволения сказать, муж и жена заблаговременно обсуждали посредством передачи письменных уведомлений!].
Поэтому начальник уголовной полиции вручил альпеншток одному из своих детективов и отправил его на металлургический завод, где подобные инструменты для скалолазания изготавливались.
Так закончилась первая декада июня. Маргарита Штайнхаль продолжала жить в доме графа и графини д'Арлон. В своих мемуарах она настаивает на том, будто в те дни страшно болела и пребывала чуть ли не на краю смерти. Её состояние якобы было настолько ужасным, что доктор Ашерай делал ей инъекции морфия и морской воды. Рассказы об «ужасном состоянии» Маргариты представляются не просто преувеличенными, а вообще выдуманными от начала до конца, поскольку никаких объективных причин для «ужасного состояния» не существовало вовсе. Преступники Маргариту не били, не насиловали и даже верёвки на её руках и ногах не затягивали, а потому на её теле не существовало ни единого кровоподтёка. Вообще ни одного! Она не видела мёртвых тел, крови, не наблюдала умерщвления, а потому никаких по-настоящему травмирующих впечатлений не получила и получить не могла. Единственное, что с некоторыми оговорками могло угрожать в те дни здоровью Маргариты — это какое-то невротическое расстройство вроде нарушения сна, неконтролируемых приступов страха, сниженное настроение и тому подобное. И назначения доктора Ашерая полностью этому соответствуют — инъекции морфия делались Маргарите Штайнхаль для быстрого засыпания и глубокого сна, а инъекции морской воды являлись классическим для того времени средством активизации иммунной системы.
Поэтому ко всем россказням этой дамочки об ужасном самочувствии и борьбе с неким тяжёлым недугом следует относиться как к симуляции, причём симуляции глупой и хорошо понятной всякому адекватному человеку. 14 июня доктор Ашерай обратился к Октаву Хамару с просьбой разрешить переезд Маргариты Штайнхаль из дома д'Арлон в Беллвью, мол, там женщина почувствует себя лучше и скорее восстановится.
Начальник уголовного розыска не стал перечить и ответил согласием, но с тем условием, чтобы на вилле «Vert-Logis» всё время находились два вооружённых детектива уголовного розыска в штатском. Необходимость присутствия полицейских Хамар объяснил тревогой за жизнь Маргариты Штайнхаль — ведь она являлась важной свидетельницей, от которой преступники могут постараться избавиться. Сложно сказать, действительно ли начальник уголовного розыска опасался за жизнь и здоровье Маргариты, но не подлежит сомнению, что детективы должны были исполнять не только функцию вооружённой охраны. Не менее важной представлялась другая задача, поставленная перед ними — наблюдение за поведением, разговорами и контактами как самой Маргариты Штайнхаль, так и лиц из её близкого окружения.
Получив разрешение Октава Хамара, Маргарита, её дочь Марта, доктор Ашерай, кухарка Мариетта Вольф и два сотрудника уголовной полиции вечером всё того же 14 июня покинули Париж и перебрались в Беллвью.
Спустя несколько дней произошло событие исключительной важности, побудившее правоохранительные органы посмотреть на двойное убийство в «доме смерти» под неожиданным углом. Доктор химии Бальтазар (Balthazard), официальный эксперт Министерства внутренних дел, представил заключение по судебно-химическому исследованию куска ваты, являвшегося кляпом, вставленным грабителями в рот Маргарите Штайнхаль перед уходом с места совершения преступления. Для определения присутствия человеческой слюны на объекте исследования, скажем, патроне папиросы, мундштуке сигареты, кляпе, салфетке и прочем, использовалась так называемая «проба Мюллера». Это очень точный анализ, выявляющий присутствие микроскопических долей амилазы (пищеварительного фермента). Собственно проба состояла из двух качественных экспериментов — в одном специально подготовленный реагент из проверяемого образца реагирует с раствором крахмала, в другом такой же точно реагент должен взаимодействовать с раствором Люголя. Если в реагенте присутствует амилаза, то в первом случае мутный раствор должен стать прозрачным, а во втором — жидкость не должна посинеть.
Вывод доктора Бальтазара оказался поразительным — то, что было названо «кляпом», никогда не бывало во рту человека! Зная, что улика доставлена из «дома смерти» в тупике Ронсин, и полагая, что произошла банальная ошибка при оформлении документов, эксперт взял на исследование большой кусок ваты, найденный полицией в спальне Маргариты Штайнхаль. Однако и на нём следов амилазы не оказалось!
Результат работы Бальтазара можно было истолковать единственным образом — связывание Маргариты Штайнхаль является инсценировкой, призванной скрыть от правоохранительных органов истинную картину произошедшего в доме №6 в тупике Ронсин в ночь на 31 мая. Необычная гуманность преступников и без того выглядела подозрительной, но теперь, когда стало ясно, что рассказ вдовы является выдумкой чуть менее, чем полностью, встал вопрос о том, как добиться от неё признательных показаний.
Ответ был совсем неочевиден. Возглавлявшие расследование лица прекрасно отдавали себе отчёт в том, что в лице Маргариты Штайнхаль имеют дело с коварной женщиной, располагающей не только значительными денежными ресурсами, но и огромными личными связями. Её любовником прежде был президент страны, но он был отнюдь не единственным любовником! Октав Хамар мог только гадать, кого именно Маргарита привлечёт к собственной защите!
Эту дамочку следовало взять в оборот так, чтобы сразу же — в ходе первого допроса — добиться признательных показаний. После того как признание сделано и ответы на самые важные вопросы следствия даны, дезавуировать сказанное не сможет ни один адвокат. Идея была хороша, следовало технично её реализовать — так, чтобы подозреваемая не поняла, насколько мрачные тучи сгущаются над её головой.
По здравому размышлению руководитель уголовной полиции решился на довольно необычную дезинформацию, призванную усыпить бдительность Маргариты Штайнхаль и убедить её в том, что следствие смотрит совсем в другую сторону. Для этого инспектору Пусэ, встречавшемуся с Маргаритой Штайнхаль буквально каждый день [или через день], надлежало предъявить ей для опознания фотографию бородатого человека, заведомо не имевшего никакого отношения к двойному убийству в «доме смерти», и посмотреть на реакцию дамочки. Пусть Маргарита знает, что неких бородатых мужчин полиция уже нашла и проверяет, кстати, немалый интерес будет представлять и то, «опознает» ли эта женщина убийцу в совершенно непричастном к преступлению человеке. Кстати, насчёт возможного опознания убийцы вдумчивый читатель может поразмыслить самостоятельно — это можно считать хорошим тестом на сообразительность.
Поскольку со стороны Маргариты могли последовать уточняющие вопросы и инспектору, возможно, пришлось бы объяснить происхождение фотографии бородатого мужчины, Хамар с Пусэ проработали небольшую легенду. Согласно ей, на подозрительного бородатого мужчину полиция вышла, проверяя происхождение альпенштока, найденного в комнате Адольфа Штайнхаля. Мол-де, оказалось, что этот альпеншток похож на тот, что приобрёл сфотографированный мужчина. На снимке же был запечатлён Фредерик Барлингхэм (Frederic Burlingham), известный американский журналист, ставший родоначальником кинодокументалистики, альпинизма и фотосъёмок дикой природы.
Родился Барлингхэм в январе 1877 года, и в возрасте 27 лет ему довелось стать репортёром нескольких американских газет в Лондоне. Затем он попал в Париж, где и обосновался. Фредерик быстро увлёкся высокорисковой журналистикой, так, например, он спускался в жерло Везувия на глубину порядка 350 метров и поднимался на высочайшие горы Европы, в том числе на Монблан [это восхождение он совершил в 1913 году]. О своих похождениях он снимал как документальные кинофильмы, так и делал фотографии, которые впоследствии издавал в виде фотоальбомов. Агитируя за возврат «к природе», Барлингхэм пропагандировал здоровый образ жизни, закаливание и физкультуру, ходил в холодное время года босиком, в 1914 году издал учебник по базовой горной подготовке [альпинизму и скалолазанию].
Никто из французских полицейских не подозревал Фреда Барлингхэма в участии в двойном убийстве в ночь на 31 мая. Они знали, что у него нет финансовых проблем, в первой половине 1908 года журналист ухаживал за богатой вдовой Леонтиной Ришар, на которой впоследствии и женился, и на конец мая у него имелось прекрасное alibi. Фред 22 мая выехал вместе с товарищем из Парижа в Швейцарию, затем отправился в Монбар, город на севере Франции, а оттуда уехал в Дижон. В общем, никаких вопросов к Барлингхэму у полицейских не имелось вообще, но Маргарите Штайнхаль знать этого до поры до времени не следовало.
19 июня инспектор Пусэ приехал в Беллвью и, уединившись с Маргаритой Штайнхаль, многозначительно предложил ей посмотреть на фотографию и ответить, узнаёт ли она кого-либо. Далее предоставим слово самой вдове, в её воспоминаниях нашлось несколько слов для описания этой сцены: «На фотографии была изображена группа из трёх человек: двое мужчин и женщина. Мне показалось, что я узнала одного из мужчин, бородатого человека с резкими чертами лица и проницательным взглядом. «Существует поразительное сходство, — ответила я, — между этим человеком и рыжебородым типом, который в ночь с 30 на 31 мая стоял у двери в коридор, в комнате, и который так и не произнёс ни слова.»
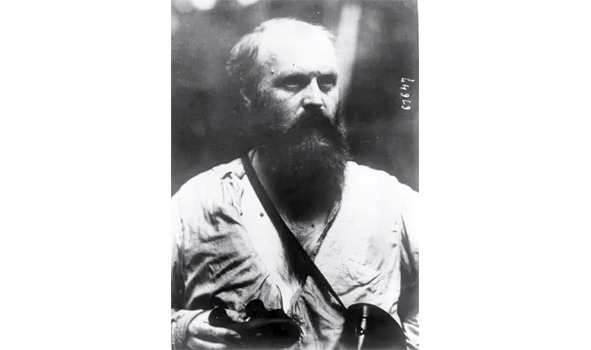
Маргарита полностью заглотила наживку, заботливо подброшенную ей Хамаром. Она «опознала» в известном американце рыжебородого убийцу и некоторое время расспрашивала инспектора о том, кто это такой и как полиция сумела выйти на этого человека. Женщине не хватило благоразумия отделаться неопределённым или неуверенным ответом, дабы не бросать тень на невиновного человека, но подобная житейская мудрость явно находилась вне пределов её понимания. Появление подозреваемого до такой степени вдохновило Маргариту Штайнхаль, что она в тот же день почувствовала, как здоровье её пошло на поправку.
Таким образом, задумка начальника уголовного розыска сработала как нельзя лучше — бдительность хитро-мудрой дамочки была успешно усыплена, что увеличивало шансы на успех внезапного для неё остро конфликтного допроса. Лейде, инспектор следственного департамента (магистрата) прокуратуры, озаботился получением ордера на её арест. Мотивировочная часть подготовленного им запроса обосновывала причастность Маргариты Штайнхаль к убийству собственного мужа нижеследующими доводами.
1) Многочисленными свидетельскими показаниями подтверждается пренебрежительное и оскорбительное отношение Маргариты Штайнхаль к своему мужу Адольфу, которое она не считала нужным скрывать перед посторонними. Интимные отношения между ними не поддерживались многие годы, даже обычное бытовое общение было сведено к минимуму. При необходимости одному из супругов войти в комнаты другого для беседы подобный визит согласовывался запиской, подаваемой через камердинера. Нередко такие записки подавались за сутки и более до момента встречи.
2) Связывание Маргариты Штайнхаль, якобы осуществлённое грабителями в ночь на 31 мая, явилось актом сугубо условным и не причинило ей ни малейших повреждений. Между тем её мать, связанная теми же людьми в то же самое время, скончалась при попытке самостоятельно освободиться от верёвок.
3) Маргарита Штайнхаль заявила, будто ей удалось вытолкнуть изо рта кляп из ваты, однако судебно-химическое исследование показало, что пресловутый «кляп» никогда не находился во рту человека.
4) Вату, использованную в качестве кляпа, согласно утверждениям Маргариты Штайнхаль, преступники принесли с собой, поскольку в доме, явившемся местом убийства, ваты якобы никогда не было. Однако при обыске кабинета первого этажа дома №6 в тупике Ронсин был обнаружен большой рулон полотна из ваты, своим видом и плотностью полностью соответствующей той, что была использована в качестве кляпа. Данная находка наводит на мысль об использовании преступниками именно этого рулона.
5) Для умерщвления Адольфа Штайнхаля преступниками был использован кусок шнура длиной три метра, который, по утверждению Маргариты Штайнхаль, был принесён ими с собой. Такой же точно шнур использовался для связывания Эмили Джапи и самой Маргариты Штайнхаль. Однако в ходе обыска дома, явившегося местом совершения преступления, большой моток точно такого же шнура был найден в нижнем отделении шкафа.
6) Эмили Джапи планировала остановиться в Париже в доме старшей из дочерей — Джульетты Херр — однако Маргарита Штайнхаль настояла на том, чтобы мать приехала с ночёвкой в дом №6 в тупике Ронсин. Свою настойчивую просьбу она объясняла желанием поговорить с матерью, однако на следующий день с самого утра она убыла в Беллвью, в результате чего Эмили Джапи оказалась предоставлена сама себе вплоть до 19 часов 30 мая. Настойчивое приглашение матери в дом выглядело как целенаправленное заманивание с целью последующей расправы.
7) За некоторое время до двойного убийства в ночь на 31 мая камердинер Реми Куйяр потерял ключ от ворот из тупика Ронсин в сад за домом. Маргарита Штайнхаль в ходе допросов неоднократно сообщала о своей озабоченности данным происшествием и тревоге, связанной с возможным проникновением в сад посторонних лиц, однако она так и не объяснила, почему не приняла мер по замене замка, ограничившись лишь устным напоминанием мужу о целесообразности таковой замены.
На основании всего изложенного делался вполне логичный вывод о том, что Маргарита умышленно вводила правоохранительные органы в заблуждение, сообщая неверные сведения о происхождении улик. А её так называемое «связывание» являлось грубой инсценировкой, призванной исказить как картину случившегося в доме №6 в тупике Ронсин, так и роль самой Маргариты в произошедшем.
Лейде обратился к вышестоящему начальству за санкцией для получения ордера на арест, но к своему немалому удивлению таковую не получил. В течение нескольких дней вопрос о возможности ареста Маргариты Штайнхаль обсуждался в высоких кабинетах и в конце концов попал на самый верхний этаж бюрократической иерархии — к прокурору республики Монье (Monnier). Последний категорически запретил проводить арест по ордеру и предложил сначала добиться от подозреваемой чистосердечного признания, а уже после этого заключать женщину под стражу. Таким образом, высокие чиновники самоустранились от решения принципиально важного вопроса, переложив собственное бремя на плечи работников низового уровня. Проявленное ими малодушие произвело гнетущее впечатление на всех причастных к расследованию и повлекло довольно неожиданные последствия, о чём в своём месте будет сказано.
Хотя ордер на арест Маргариты получить не удалось, от заранее выработанного плана по проведению агрессивного допроса никто отказываться не хотел. И 26 июня полиция приступила к реализации задуманного. Утром того дня на виллу в Беллвью прибыли инспектор Пух, которого сопровождал полицейский патруль, и медицинская группа, призванная исключить любые ссылки подозреваемой на дурное самочувствие. В упомянутую группу входил полицейский врач Ригал (Regal), медицинский автомобиль с носилками, пара санитаров и медсестра. Инспектор сообщил удивлённой Маргарите о необходимости проследовать для допроса, женщина, разумеется, тут же разыграла сцену с обмороком и полным помрачением сознания, но на прибывших это впечатления не произвело, и находчивую женщину живо уложили в автомашине.
Далее последовала поездка в город Булонь-на-Сене, удалённый от Беллвью на 25 км. Там проживала Маргарита Бруар, родная сестра убитого Адольфа Штайнхаля — именно в её доме и было решено провести допрос. К тому времени, когда Пух доставил по нужному адресу Маргариту Штайнхаль, её уже ожидали следователь Лейде и один из заместителей Прокурора республики Гранжан (Grandjean). Последний должен был стать ушами и глазами Монье. Гранжан не планировал вмешиваться в ход допроса, предоставив всю инициативу Лейде, но ему предстояло доложить Прокурору республики обо всём произошедшем на его глазах.
Маргарита явно рассчитывала сорвать допрос симуляцией неких «приступов», «обмороков» и «невралгических припадков», но присутствие полицейского врача с необходимыми медикаментами сорвало все эти затеи. Впоследствии Маргарита утверждала, будто представители Закона целый день её терзали и отказывали в помощи, но в действительности медицинская помощь ей была совершенно не нужна — дамочка была здорова, как лошадь. Сетуя на произвол правоохранительных органов, Маргарита утверждала, что протокол этого «мучительного допроса» составил всего 16 листов, мол, стоило ли издевательство столь ничтожного результата?! Историческая правда, однако, заключается в том, что 16 листов рукописного протокола — это совсем немалый объём. Протокол допроса — это не стенограмма, туда не записываются все произнесённые подряд слова, напротив, каждая фраза обсуждается и уточняется. Поэтому Маргарита Штайнхаль очень сильно покривила душой, расточая саркастические сентенции в отношении всего произошедшего в доме Маргариты Бруар.
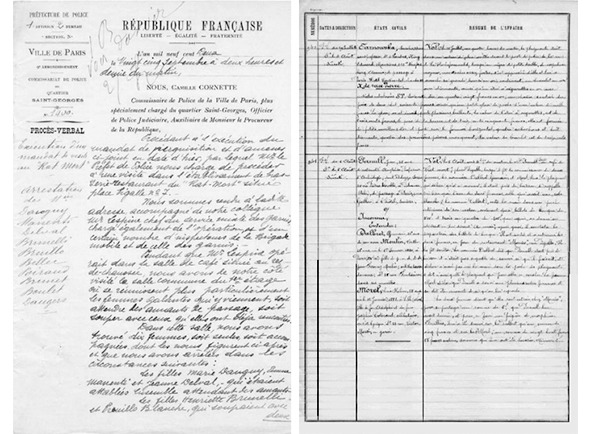
Итак, что же произошло в ходе допроса?
Прежде всего, следует отметить стойкость подозреваемой, отвергшей настойчивые призывы следователя рассказать правду о событиях трагической ночи. Такого рода предложения делались неоднократно, причём они повторялись по мерее сообщения сведений, уличающих Маргариту во лжи. Её эмоциональное напряжение постепенно нарастало — в этом не может быть сомнений — но женщина так и не сделала никаких признаний и отвергла все подозрения в свой адрес. Отвергла совершенно голословно и неубедительно, но тем не менее проявила недюжинную твёрдость характера.
В ходе допроса Лейде сообщил подозреваемой о том, что на кляпе из её рта следов слюны не обнаружено, а это означает, что кляп этот никогда не затыкал человеческий рот. Штайнхаль заявила, что не может объяснить этот факт, и высказала предположение о небрежной работе полицейских, собиравших улики и утративших настоящий кляп.
Когда Маргарите задали вопрос о происхождении ваты, та повторила прежнее утверждение, согласно которому вату принесли с собой преступники. Когда ей сообщили об обнаружении большого рулона катанной ваты в столе, стоявшем в будуаре между спальнями Маргариты и её дочери Марты, допрашиваемая наморщила лоб и… И вспомнила, что вата действительно имелась в доме. Она даже пояснила, для чего именно она же сама её и принесла — ей надо было упаковать статуэтку, предназначенную в подарок!
Какая милота, какое замечательное улучшение памяти после напоминания во время допроса…
Резкое улучшение памяти Маргариты Штайнхаль произошло и в вопросе, связанном с происхождением верёвки, использованной для связывания её самой и её матери, а также удушения Адольфа Штайнхаля. После того, как подозреваемой напомнили о наличии в шкафу толстого мотка такого же точно шнура, она живо вспомнила о том, что и в самом деле такой шнур у них имелся — он использовался для развески многочисленных картин в мастерской мужа и их упаковке при транспортировке.
В числе вопросов, прозвучавших в ходе этого допроса, был и связанный с предстоящим ремонтом в «доме смерти». В последнюю декаду июня туда стали завозить краску, доски, разного рода отделочные материалы. Лейде пожелал узнать, что означают эти приготовления. Маргарита объяснила, что после смерти мужа лишилась стабильного источника дохода, а потому решила оборудовать на первом этаже дома №6 квартиру для сдачи в аренду. По её мнению, это была неплохая идея с точки зрения ведения бизнеса, поскольку нашлось бы немало желающих пожить в столь «легендарном месте». Лейде констатировал, что такой ремонт похож на целенаправленное уничтожение места преступления, но был вынужден признать невозможность официального запрета на проведение ремонта после окончания работы полиции не месте совершения преступления.
Допрос 26 июня пощекотал нервы Маргариты Штайнхаль и доставил ей, по-видимому, немало неприятных минут, однако закончился пшиком. Подозреваемая не дала признательных показаний и, несмотря на недостоверность продемонстрированного ею улучшения памяти, оснований для заключения под стражу прокуратура не имела. Маргариту отвезли обратно в Беллвью, и она получила возможность перевести дух — самое страшное было теперь позади.
По крайней мере так могло ей показаться в те дни и недели.
В течение последующих четырёх недель расследование не демонстрировало никаких заметных или интригующих поворотов, но в указанный период имели место два события, о которых нельзя не упомянуть.
Во-первых, радикально изменились отношения следователя прокуратуры Лейде и главной подозреваемой. Следует иметь в виду, что Лейде на протяжении ряда лет был знаком с супругами Штайнхаль. Убийство Адольфа не могло не задеть его чувств, и на первом этапе расследования Лейде был серьёзно настроен вывести Маргариту на чистую воду. Однако, столкнувшись с явной трусостью руководства прокуратуры, испугавшегося санкционировать арест подозреваемой, Лейде переосмыслил собственную роль в этом деле. Опасаясь того, что расследование двойного убийства в тупике Ронсин окажется слишком «токсично» для прокуратуры Третьей республики и чревато крахом его собственной карьеры, Лейде резко перестроил своё поведение с Маргаритой. Из строгого и взыскательного следователя он в одночасье превратился… в обходительного и внимательного друга подозреваемой. В это трудно поверить, но так случилось! Маргарита явно обрадовалась перемене в его поведении и подыграла, как могла. Следователь стал любовником подозреваемой и при этом рассудил, по-видимому, так: Маргарита — женщина свободная, весьма привлекательная и с большими связями, она, несомненно, выкрутится из опасной ситуации, и если она будет другом, то поможет выкрутиться и ему. Подход циничный, но понятный. Ситуации, когда в ходе расследования должностное лицо выходит далеко за рамки служебных полномочий и вступает в интимные отношения с представителем противной стороны, встречаются гораздо чаще, нежели принято думать.
Таким образом, следователь переметнулся в лагерь противника, стал, выражаясь метафорически, чужим среди своих. Свои отношения любовники некоторое время умудрялись хранить в полном секрете от посторонних, но, как известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным. По крайней мере в Париже… А потому интимные отношения следователя и подозреваемой, возникшие после 26 июня, заложили бомбу, потенциально сулившую взрыв невероятной силы.
Но кроме «во-первых» имелось и «во-вторых», также весьма важное для Маргариты Штайнхаль. Выше мимоходом упоминалось, что Марта — дочь Маргариты и убитого Адольфа — являлась невестой. В статусе счастливого жениха пребывал Пьер Бюиссон (Pierre Buisson), один из шестерых детей делового партнёра Адольфа Штайнхаля. Адольф являлся художником и витражных дел мастером, а братья Бюиссоны владели фабрикой по производству посуды. В конце 1907 года братья Бюиссоны вместе с Адольфом Штайнхалем создали компанию под названием «Boulogne Ceramics Co.» («Булонь керамикс»), которая должна была выпускать посуду из цветного стекла и керамики. Замыслы по совместному ведению бизнеса были очень большими, и их было решено закрепить браком детей — Марты Штайнхаль и Пьера Бюиссона, сына одного из братьев.
На начало июня 1908 года было запланировало увеличение уставного капитала компании, и братья Бюиссоны, несмотря на убийство Адольфа Штайнхаля, сдержали свои обещания и внесли необходимые суммы. Маргарита Штайнхаль, разумеется, свою долю вносить не стала. Слово «разумеется» употреблено неслучайно — отдавать деньги всегда выходило за рамки понимания Маргариты, и только наивный человек мог всерьёз поверить в то, что эта женщина будет выполнять обязательства, принятые на себя её мужем.
В общем, планы по запуску работы «Булонь керамикс» зависли в некоторой неопределённости, и Бюиссонам это понравиться никак не могло. Но до поры до времени с этим можно было мириться, всё-таки ситуация, в которой оказалась Маргарита, являлась экстраординарной, и её непоследовательность в денежных делах можно было каким-то образом оправдывать. Бюиссоны — как родители, так и их дети — поддерживали Маргариту и Марту, практически ежедневно встречаясь с ними в Париже или Беллвью, и в целом их добросердечное отношение выглядело искренним и милым. Однако нападки прессы, осведомлённой в общих чертах о ходе расследования и подозрениях в отношении Маргариты, очень быстро сделали своё дело — Бюиссоны занервничали. В конце июня они попросили Маргариту прояснить свою позицию относительно внесения денег в уставной капитал «Булонь керамикс»: выполнит она обязательства покойного мужа или нет?
Отрицательный ответ стал для Бюиссонов холодным душем. Теперь уже бракосочетание Пьера с Мартой казалось совсем не такой выгодной партией, как всего месяц тому назад. В середине июля сторона жениха объявила о расторжении помолвки, вчерашние друзья семьи моментально отдалились, и отношения между Штайнхалями и Бюиссонами практически прервались.
В этой обстановке Маргарита предприняла шаг самый, пожалуй, разумный — она надумала уехать куда подальше от знакомых и незнакомых, а главное — подальше от репортёров. Следователь Лейде возражать не стал — с ним Маргарита уже прекрасно ладила, и он во всём шёл ей навстречу! — а потому в конце июля мать и дочь отправились на ферму в районе небольшого городка Лувьер (Louvieres) в Нормандии, на удалении 250 км от Парижа. Там Маргарита и Марта оставались в полной изоляции от столичного общества целый месяц. Там их никто не беспокоил, и они тоже о себе не напоминали. За этот месяц количество публикаций в столичной прессе, посвящённых двойному убийству в «доме смерти», значительно уменьшилось, исчезновение главного раздражителя [в лице Маргариты Штайнхаль] способствовало некоторому снижению накала тех негативных эмоций, что бушевали в публикациях начала июня.
После месячного пребывания в Нормандии мать и дочь возвратились на виллу в Беллвью. Маргарита наведалась в Париж, посмотрела, как продвигается ремонт первого этажа «дома смерти», и надумала сделать ещё и косметический ремонт студии на втором этаже. В точном соответствии с пословицей, гласящей, что аппетит приходит во время еды. Ещё почти 8 недель Маргарита и Марта оставались в Беллвью и лишь 23 октября, когда основные ремонтные работы в доме №6 были закончены, перебрались в Париж.
О чём думала в те дни Маргарита Штайнхаль? Безусловно, она могла быть довольна собой! Проницательные читатели наверняка уже пришли к выводу о причастности этой женщины к расправе над матерью и мужем, разумеется, опосредованной, сделанной чужими руками, но по её наводке и прямому заказу. Эта женщина получила, что хотела — дом, сбережения мужа, его картины — и при этом избежала гильотины. Да, скрытая подоплёка дела выглядела довольно тривиальной и в общих чертах понятной, но Правосудие расписалось в полном бессилии и ничего вменить «несчастной вдове» не могло.
Наверное, так могла рассуждать Маргарита Штайнхаль в последнюю декаду октября 1908 года. В целом всё у неё было очень даже неплохо, но, по-видимому, некоторое неудовольствие доставляла пресса, однозначно связывавшая её с убийцами. Возможно, источником некоторого неудовольствия могла являться Марта, коловшая мать разрушением помолвки или какими-то иными деликатными обстоятельствами, о которых мы сейчас можем только догадываться. Как бы там ни было, хотя к последней декаде октября всё у Маргариты складывалось в целом неплохо, некая червоточина беспокоила её и лишала покоя.
И именно поэтому безо всякой внешней причины безутешная вдова решилась на шаг довольно странный с точки зрения всякого разумного человека. Ибо разумный человек знает мудрость, гласящую «не буди лихо пока оно тихо», и Маргарита Штайнхаль тоже должна была знать что-то подобное, но… Она пренебрегла этим замечательным советом предков.
Итак, утренним поездом 23 октября Маргарита и Марта возвратились из Беллвью в дом №6 в тупике Ронсин, а уже после обеда безутешная вдова направила свои стопы во Дворец правосудия на приём к прокурору республики. Разумеется, безо всякой записи и даже без предупреждения, полагаясь на то, что уж ей-то прокурор республики в приёме не откажет!
И она оказалась права, прокурор Монье, узнав о появлении в приёмной Маргариты Штайнхаль, распорядился пропустить её к нему в кабинет вне очереди. Посетительница весьма бодро начала с жалобы на бездействие следствия и полную беспомощность возглавляемого господином Монье ведомства при расследовании двойного убийства, имевшего место в ночь на 31 мая в её доме. Прокурор республики, должно быть, оказался до некоторой степени удивлён наглостью женщины, которая считалась главной подозреваемой в организации этого самого двойного убийства. Сначала он пытался сдерживаться и не отвечать колкостями, но когда Маргарита пожаловалась на следователя Лейде — да-да, собственного любовника! — и решительно потребовала всемерной активизации расследования, самый главный прокурор Третьей республики закипел.
Всё ещё сдерживая гнев, но уже достаточно зло он ответил страдающей вдове, что ей надлежит внимательнее следить за собственным поведением и не спешить зарабатывать на убийстве матери и мужа. Маргарита почувствовала в голосе прокурора осуждение и попросила его уточнить, что именно тот имеет в виду. Монье и уточнил, рассказав, что прочёл в американской газете о ремонте в доме №6 и предполагаемой сдаче в аренду помещений, явившихся местом преступления. Маргарита, расценив слова Монье как укоризну, вспыхнула и не придумала ничего умнее, как брякнуть в ответ, что господину главному прокурору следует больше работать и меньше читать американских газет.
Это была, конечно же, беспримерная наглость, то, что евреи называют хуцпой [демонстративной оскорбительной бестактностью]. Указывать прокурору республики, находясь в его же кабинете, что ему надлежит делать — это крайне неумная стратегия поведения. Монье, услыхав выпад Маргариты, проявил чудеса самообладания и сдержанности. Он очень тихо сказал, что следователь хотел её арестовать 26 июня, но именно он — Монье — не позволил этому случиться. И замолчал… Сказанное можно было истолковать таким образом, что более он не станет защищать подозреваемую.
После внушительной паузы прокурор республики ледяным тоном предложил посетительнице уйти и более не беспокоить его советами насчёт того, чем заниматься и какие газеты читать. Сказанное можно было истолковать как объявление войны, хотя сама Маргарита в те минуты вряд ли понимала тот градус раздражения, который спровоцировала своим необдуманным поведением.
После неудачной, мягко говоря, аудиенции с прокурором республики дамочке надлежало бы как следует взвесить все возможные последствия выбранной ею тактики поведения с должностными лицами. Однако Маргарита Штайнхаль либо совершенно не задумывалась над тем, что намеревалась делать, либо совершенно неверно оценивала их возможности и значимость собственной персоны. Другими словами, Маргарита в очередной раз проявила непомерную самонадеянность и отсутствие понимания реального положения вещей.
Только такой неадекватностью можно объяснить последующие шаги Маргариты, которые сложно назвать иначе как неосторожными и неумными. На следующий день после визита к прокурору республики энергичная вдова направила свои стопы в… штаб-квартиру «Сюртэ». Немного неожиданно, верно? Ещё более неожиданным следует признать выбор спутников для этого визита — вместе с Маргаритой Штайнхаль в здание уголовной полиции отправились её дочь и двоюродный брат убитого Адольфа некий господин по фамилии Шабрие (Chabrier). Статус последнего представлялся до некоторой степени неопределённым — он выступал в качестве родственника Адольфа Штайнхаля, но в действительности с началом осени 1908 года стал довольно близок Маргарите и даже поселился в доме №6 в тупике Ронсин. Формально он следил за ремонтом, но злые языки называли Шабрие сожителем Маргариты Штайнхаль, и впоследствии французские репортёры выплеснут эту благую весть на страницы газет. Сама же Маргарита с негодованием будет отвергать подобные грязные домыслы. Кто бы сомневался…
Октав Хамар, узнав о появлении в приёмной необычной компании, принял Маргариту немедленно, но без её спутников. Энергичная вдова высказала ему те же претензии, что прокурору Монье накануне. Начальник уголовной полиции остался бесстрастен. По-видимому, он понимал бессмысленность спора с женщиной, которую, если говорить по совести, следовало заключать под стражу по обвинению в убийстве, а не устраивать с нею обсуждения того, как надлежит расследовать преступления. В конце разговора он холодно заявил, что намерен раскрыть двойное убийство в тупике Ронсин, и с тем выпроводил Маргариту из кабинета.
Энергичная вдова явно осталась не удовлетворена результатами бесед с Монье и Хамаром. Судя по всему, она хотела, чтобы кто-то из них заявил прессе об отсутствии у следствия каких-либо подозрений в её адрес. И поскольку подобных заявлений не последовало, Маргарита Штайнхаль решилась на следующий смелый и неожиданный шаг — она открыто обвинила власти в провале расследования, вялости и безынициативности. Сложно сказать, задумывалось ли Маргаритой подобное развитие с самого начала или это обращение в прессу стало экспромтом, но этот шаг, безусловно, следовало признать перчаткой, открыто брошенной Монье и Хамару.
Через хорошо знакомого ей журналиста Марселя Гатина (Marcel Hutin) энергичная вдова 30 октября передала в редакцию газеты «Echo de Paris» («Эхо Парижа») письмо, написанное в совершенно демагогической манере, но при этом бойкое и с хорошо выраженным обвинительным уклоном. 31 октября письмо это было опубликовано, и его появление вполне ожидаемо спровоцировало бурю. Почему ожидаемо? Да потому, что в стране с кипящей политической жизнью, перманентными правительственными кризисами и огромным по численности оппозиционным электоратом любой выпад в адрес правящей администрации вызовет приветствие части прессы. Другая же её часть — проправительственная — разумеется, начнёт сыпать проклятьями и защищаться.
Если Маргарита Штайнхаль желала скандала, то она могла гордиться собой — поставленная цель оказалась достигнута быстро и эффективно. Та самая женщина, что несколько месяцев назад признавалась большинством пишущей братии если не прямо виновной в убийстве матери и мужа, то уж точно косвенно причастной к трагедии, теперь одномоментно превратилась в символ нации, бросившей вызов косной системе Третьей республики. Приведём небольшую цитату из воспоминаний этой женщины, дабы дать представление о последовавшем далее: «Когда во второй половине дня мы [Маргарита и её дочь Марта] зашли в тупик, то обнаружили, что его заполонили десятки журналистов, которые бросились к нам и завалили меня вопросами… но я твердо заявила, что пока мне нечего добавить к тому, что я сказала в своем письме в „Эхо Парижа“. (…) На следующее утро, в День всех святых, мы просмотрели газеты — мой брат, Марта и я… и были поражены. В каждой из них целые колонки были посвящены загадочному убийству, моему письму, опубликованному в „Эхо Парижа“. Одни одобряли, другие критиковали. Одни хвалили мою смелость, другие давали понять, что считают этот мой смелый, безрассудный поступок признаком моей вины!»
С начала ноября Маргариту Штайнхаль преследовали десятки репортёров как национальных газет, так и иностранных. В своих мемуарах она утверждает, что её дом в тупике Ронсин ежедневно посещало от 50 до 80 человек, предлагавших всевозможную помощь в расследовании, сообщавших важную [и не очень] информацию и забрасывавших её разнообразными версиями и советами. Кроме того, она стала получать вал писем как от парижан, так и из провинции. Обработку корреспонденции принял на себя упоминавшийся выше Шабрие, двоюродный брат Адольфа Штайнхаля, крепко обосновавшийся под крылышком милой вдовы.
Маргарита могла думать, что полностью реабилитировалась в глазах общественности и никто более ни в чём её не заподозрит и не упрекнёт. Наивное заблуждение! Удивительно то, что нотариус Обин (Aubin), выполнявший функции юрисконсульта Маргариты Штайнхаль, не предостерёг её от опасностей, связанных с публичной дискредитацией Власти. Разного рода разоблачения, особенно в тех случаях, когда с ними выступает лицо с небезупречной репутацией, чреваты для разоблачителя самыми неожиданными последствиями. Не будет ошибкой сказать, что Маргарита Штайнхаль уподобилась глупому медведю, сунувшему морду в осиное гнездо.
И очень скоро ей пришлось получить сверхценный опыт того, как гласность и разоблачения могут быть использованы противной стороной уже против неё самой. 13 ноября парижская газета «Матэн» дала сенсационный материал о бывшем полицейском инспекторе по фамилии Россиньоль (Rossignol), сообщившем журналисту Сюрвейну (Sauerwein) о своём участии во вторжении в «дом смерти» в ночь на 31 мая и готовности выдать подельников. Бывший полицейский, разумеется, выдвигал кое-какие условия, в частности, он желал получить гарантию снисхождения суда и некоторую материальную компенсацию, но в целом в его требованиях не было ничего чрезмерного. Необходимо отметить, что в «Матэн» было несколько публикаций на эту тему, все они вышли в период с 13 по 17 ноября. Помимо этой газеты, упомянутую версию взялась активно обсуждать и развивать ещё одна крупная столичная газета под названием «Пти паризьен» («Petit Parisien»).
Сюрвейн провёл собственное расследование, результаты которого в общих чертах выглядели так. Двумя годами ранее в дом Адольфа Штайнхаля попытались проникнуть воры, перелезшие через стену со стороны тупика Ронсин, но их заметили рабочие расположенной неподалёку типографии. Рабочие подняли шум, и воры, сообразив, что скрытность утеряна, поспешили ретироваться. Об инциденте была проинформирована полиция округа Сен-Ламберт (Saint Lambert), и в доме художника была устроена круглосуточная засада. Результатов эта затея не принесла, но за те две недели, что полицейский наряд круглосуточно находился в доме, один из блюстителей закона закрутил небольшую интрижку с Маргаритой Штайнхаль. Звали этого счастливчика Россиньоль.
Из полиции он уволился 1 мая 1908 года в возрасте 38 лет. Испытывая материальные затруднения, он задумался над тем, как можно легко и быстро заполучить много денег, и припомнил о замечательном доме в тупике Ронсин. Он хорошо изучил планировку дома, образ жизни хозяев, но самое главное — Россиньоль знал, что в том доме есть деньги. Он не планировал никого убивать, а потому смерть двух человек в ходе ограбления повергла его в глубокую депрессию. Понимая, что разоблачение приведёт его на гильотину, Россиньоль принял единственно возможное для спасения жизни решение — сдать подельников полиции и сдаться самому, разумеется, получив гарантии сохранения жизни.
Владелец газеты «Матэн» Буно-Варилла (Bunau-Varilla) согласился выступить посредником между Россиньолем и властями и выплатить бывшему полицейскому некую сумму. Газетчик попытался привлечь к сотрудничеству Маргариту Штайнхаль, в частности, ей предстояло опознать Россиньоля и его подельников, однако Маргарита отказалась сотрудничать. О чём своим читателям и сообщила «Матэн».
Сюрвейн умудрился сделать отличный «наброс», уж извините автора за низкий слог! Его расследование выглядело логичным, хорошо понятным и читалось на одном дыхании. В дни, последовавшие после 13 ноября, Маргариту постоянно спрашивали о Россиньоле: узнала ли она его среди нападавших? действительно ли у неё была интрижка с импозантным полицейским, и почему она отказалась помочь Буно-Варилла в его переговорах с главным грабителем? Поначалу энергичная вдовушка пыталась объяснять, что Россиньоля не знает, опознать его не может, издателю «Матэн» не верит и, вообще, хочет, чтобы её оставили в покое, но… но такие объяснения не удовлетворяли спрашивавших.
Маргарите Штайнхаль очень понравилась идея с помощью прессы поставить в неудобное положение прокурора Монье и начальника сыскной полиции Хамара, но теперь она на собственном опыте поняла, что с помощью прессы и её саму совсем несложно поставить в гораздо более неудобное положение. И чем больше она оправдывалась, тем меньше ей верили.
Правда, последовавшие вскоре события заставили всех позабыть о расследовании Сюрвейна и бравом отставном полицейском инспекторе Россиньоле. Но прежде чем перейти к их изложению, следует остановиться на нескольких нюансах, без которых сюжетные зигзаги окажутся малопонятными.
Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о проверке Россиньоля и связанной с ним версии журналиста Сюрвейна. Сотрудники уголовного розыска, разумеется, прочитали статьи в «Матэн» и помчались искать упомянутого там бывшего полицейского. Выяснилось, что этот человек действительно существовал, он действительно служил в полиции и действительно был в числе тех сотрудников, кто находился в засаде в доме №6 после неудачной попытки обворовать его в 1906 году. Более того, 1 мая 1908 года Россиньоль в самом деле был выведен за штат и… собственно, на этом совпадения с рассказом Сюрвейна заканчивались. Россиньоль уехал из Парижа и стал жить в провинции, он устроился в компанию по торговле кофе и в целом был доволен своей жизнью. Проживал он в городке Авен-ле-Конт (Avesnes-le-Conte), на севере Франции приблизительно в 160 км от Парижа. Благолепие это продлилось до вечера 13 ноября, когда его вызвал к себе владелец компании и объявил, что Россиньоль уволен по той простой причине, что о нём плохо написала «Матэн», а потому для него места здесь более не будет.
А на следующий день бедолагу взяли под белые руки местные полицейские и доставили на допрос в кабинет Октава Хамара. Быстро выяснилось, что Россиньоль имеет непробиваемое alibi на ночь с 30 на 31 мая и журналиста Сюрвейна никогда не видел и не слышал. Журналист, кстати, тоже Россиньоля не опознал, заявив, что вёл переговоры с другим человеком. Ситуация выглядела таким образом, будто некий мошенник, назвавшийся Россиньолем, попытался выманить у издателя «Матэн» денежки, обещая выложить сенсационную подноготную двойного убийства. Таким образом, сенсация вроде бы превращалась в банальное мошенничество, но…
Но вскоре появилась информация иного рода. Коллеги по полицейской службе говорили о Россиньоле как о человеке ненадёжном, скомпрометированном связями с преступными группировками. Собственно, именно из-за ненадёжности и подозрений в коррупции Россиньоля из полиции и удалили. В числе ближайших друзей этого человека был назван инспектор Андрэ Кавелье (Andre Cavellier), в прошлом сотрудник «Мобильной бригады» парижской полиции — элитного подразделения, специализировавшегося на розыске и задержании самых опасных уголовников. Правда, в «Мобильной бригаде» Кавелье отслужил недолго — с 1 января по 31 августа 1906 года — после чего его отправили в отставку. Причина отставки оказалась, прямо скажем, нетривиальной — этот полицейский участвовал в серии ограблений, список которых был приложен к справке, полученной Хамаром. Кавелье, конечно же, следовало отдать под суд, но делу ход не дали, не желая выносить сор из избы.
По всему получалось, что Россиньоль — грязный полицейский, и от такого человека ожидать можно было всякого. Он действительно хорошо знал дом №6 в тупике Ронсин и мог стать наводчиком банды.
Но и это было не всё! Сотрудники «Сюртэ» отыскали Кавелье и поговорили с ним о Россиньоле. Андрэ осознал серьёзность момента, не стал отмалчиваться и рассказал всё, что знает. Выяснилось, что Кавелье являлся свидетелем встречи Россиньоля с Маргаритой Штайнхаль! Встреча эта имела место в конце августа 1908 года на парижском вокзале «Saint-Lazare», после чего парочка прошла в ресторан «Scossa», где и пообедала. Кавелье не без иронии заметил, что его дружок Россиньоль, которого он не видел уже некоторое время, заметно поправился.
Согласитесь, поворот неожиданный. То, что казалось мистификацией или ошибкой журналиста Сюрвейна, на самом деле оказалось правдой — бывший полицейский Россиньоль всё-таки был коротко знаком с вдовой убитого художника!
Детективы, разумеется, уточнили у Андрэ Кавелье, откуда он знает Маргариту Штайнхаль. То, что он опознал своего дружка Россиньоля — это вопросов не вызывает, но откуда ему известна Маргарита Штайнхаль? Бывший инспектор «Мобильной бригады» снова лучезарно улыбнулся и пояснил, что, во-первых, дама, с которой повстречался Россиньоль, была облачена в полный траур, а во-вторых, он за ней следил уже несколько дней. И видя изумление полицейских, рассказал, что работает в частном детективном агентстве и по поручению некоего заказчика в августе 1908 года следил за Маргаритой Штайнхаль в Беллвью. Когда она отправилась в Париж, он поехал за ней и стал свидетелем её встречи на вокзале с Россиньолем.
Сразу внесём ясность — имени и фамилии заказчика, поручившего Андрэ Кавелье следить за Маргаритой Штайнхаль, в материалах уголовного дела нет. Но человек этот, безусловно, был частным детективом назван. Это был любовник Маргариты, отношения с которым завязались в феврале 1908 года, то есть приблизительно за три месяца до двойного убийства в «доме смерти». Это был очень влиятельный и богатый человек, и именно по этой причине его имя и фамилия в документы следствия не попали. Выходец из старинного дворянского рода, таинственный любовник Маргариты владел большим поместьем со старым замком в Лотарингии, его бизнес-интересы простирались как по многим регионам Франции, так и выходили далеко за её пределы. После трагических событий в «доме смерти» этот человек прервал всякую связь с Маргаритой Штайнхаль, но, по-видимому, имел намерение со временем восстановить отношения и именно по этой причине обратился к частному сыскному агентству с просьбой организовать скрытую слежку за объектом своего интереса.
О связи этого человека с Маргаритой Штайнхаль до последней декады ноября 1908 года не знал никто — ни начальник «Сюртэ» Хамар, ни директор Департамента расследований МВД Сибиль (Sebille), ни прокурор Лейде. И вот сейчас неожиданное появление этого персонажа радикально изменяло оценку всего случившегося. Почему? Да потому, что теперь у всего произошедшего в «доме смерти» появлялся более чем веский мотив. Адольф Штайнхаль, хотя мог считаться человеком зажиточным, зарабатывал на жизнь своим трудом и на фоне настоящей знати выглядел очень и очень скромно. Маргарита жила за его счёт, и хотя у неё были богатые любовники и эти любовники делали щедрые подарки, она не могла считать себя в материальном отношении по-настоящему обеспеченной. Тот факт, что после смерти мужа ей пришлось задуматься о сдаче в аренду части дома, поскольку без заработка супруга, в общем-то, жить оказалось не на что, подтверждает этот вывод. И вот в феврале 1908 года, за три месяца до трагедии в переулке Ронсин, у Маргариты появляется поклонник с отличной родословной, очень богатый и к тому же вдовец… Если с таким человеком связать жизнь, то все проблемы о хлебе насущном исчезнут, как утренний туман, Маргарита проведёт в роскоши остаток жизни и получит к этому прекрасный довесок в виде дворянской титулатуры.
Заманчиво, не правда ли? Но на пути к этому счастью лежит неподъёмный камень, который зовётся Адольф Штайнхаль. И мамаша, которая этого самого Адольфа всегда защищала и запрещала дочери даже подумать о разводе. Но если убрать с пути эти препятствия, то…
В общем, к последней декаде ноября руководители следствия к немалому для себя удивлению получили отличный мотив двойного убийства и поняли, что главным выгодоприобретателем от всего случившегося в ночь на 31 мая оказалась Маргарита Штайнхаль, дочь и жена убитых.
Однако необходимо подчеркнуть, что признавать существование богатого любовника и называть его было отнюдь не в интересах следствия. Этот человек входил в финансово-политическую элиту Франции, и расследование надлежало провести так, чтобы никоим образом не вовлечь его в грязную историю. Иное грозило самым настоящим правительственным кризисом. Именно по этой причине информация, полученная от Андрэ Кавелье, была сохранена в глубокой тайне, и о случившемся прорыве в расследовании узнали [помимо Октава Хамара] буквально три человека.
Публикации в «Матэн», посвящённые Россиньолю — напомним, они имели место 13—17 ноября — подействовали на Маргариту отрезвляюще. Она считала, что её «открытое письмо» с обвинениями в адрес правоохранительных органов было удачным ходом, однако после появления версии журналиста Сюрвейна она уже не была в этом уверена. В своих мемуарах она пишет об овладевшем ею в те дни волнении и о своём обращении к нотариусу Антону Обину (Antony Aubin) с вопросом, как ей поступать в сложившейся ситуации. Последний, по-видимому, понимал, что Маргарита Штайнхаль своими креативными выходками перегнула палку и вызвала гнев сильных мира сего, а потому её могут ждать неприятные сюрпризы. Обин рекомендовал Маргарите связаться с Гороном (Goron), возглавлявшим прежде Службу безопасности (контрразведку), а ныне руководившим собственным детективным агентством.
Горон относился к числу лиц, наиболее осведомлённых о тайном закулисье происходившего тогда во Франции. Он лично был знаком практически со всеми крупными чиновниками своей эпохи и, разумеется, знал, кто такая Маргарита Штайнхаль и отношения какого рода она поддерживала с президентом Феликсом Фором.
Горон, выслушав рассказ Маргариты о преступлении и связанном с ним расследовании, глубокомысленно заметил, что сейчас речь уже идёт не просто о поиске убийц и возврате похищенного, но в гораздо большей степени о сохранении лица Власти. Действия Маргариты не могли не уязвить высокопоставленных чиновников прокуратуры и Министерства внутренних дел, её обращение к прессе иначе как легкомысленным и не назовёшь. Горон согласился с тем, что Маргариту могут ожидать в скором будущем самые неожиданные открытия, в том числе и крайне для неё неприятные.
Он предложил ей охрану, которая должна будет находиться в её доме под видом рабочих, занятых ремонтом. Также он высказал намерение приехать в «дом смерти» для личного осмотра. Поскольку подходы к участку и со стороны улицы Вожирар, и со стороны тупика Ронсин круглые сутки находились под наблюдением большого количества репортёров и зевак, Горон заявил, что приедет вместе с сыном под видом американца-арендатора, ищущего квартиру для длительного проживания.
На том и условились. На следующий день — речь идёт о 19 ноября 1908 года — Горон действительно приехал вместе с сыном и осмотрел дом. Его интересовали уязвимые места постройки с точки зрения несанкционированного проникновения. Покончив с осмотром, Горон задержался для небольшого разговора с Маргаритой. Настроение его было мрачным, за последние часы он явно собрал справки и получил некую информацию о двойном убийстве в тупике Ронсин, и всё это его мало вдохновило. В своих воспоминаниях Маргарита написала, будто Горон дал ей несколько советов или наставлений, если угодно. Перво-наперво он настоятельно рекомендовал полностью прекратить общение с репортёрами и никогда не пытаться с этими людьми заигрывать. Другой его совет касался отъезда из Парижа — он предложил Маргарите подумать о скорейшем путешествии туда, где тепло и солнечно, например, на Ривьеру. И, наконец, он весьма мрачно рекомендовал задуматься о судьбе дочери и прекратить фантазировать на тему давления на Власть. Высказался он неопределённо, но явно напугал Маргариту…
Неизвестно в точности, обсуждалась ли возможность ареста в скором будущем энергичной вдовушки. Сама Маргарита ничего в своих воспоминаниях об этом не пишет и, вполне возможно, что тема эта затрагивалась. Горон уже с десяток лет находился за штатом и вряд ли ему кто-то стал бы сообщать самые последние и актуальные новости. Но, с другой стороны, нельзя полностью отвергать возможность существования друзей, готовых сделать намёк, способный подтолкнуть к правильному выводу. Наконец, опытный сыщик и сердцевед мог о многом догадаться даже по тем обрывкам информации, что попадали в прессу. Профессиональное чутьё дорогого стоит, и Горон 19 ноября уже мог ясно понимать, в каком направлении будут развиваться события. Вполне возможно, он даже пожалел, что связался со столь токсичной и опасной дамочкой.
Как бы там ни было, Горон уехал, а Маргарита Штайнхаль осталась наедине со своими мыслями. Впрочем, нет, не совсем одна, рядом с ней находилась Марта. И то, что последовало далее, связано с этими двумя кумушками — их вину разделить нельзя.
В результате разговора с Гороном днём 19 ноября Маргарита Штайнхаль поняла, что тучи над ней сгустились по-настоящему и в ближайшие дни возможен её арест. Если в июне прокурор республики Монье встал горой на её защиту и прямо запретил заключать Маргариту под стражу, то после данного ему совета не читать американских газет в рабочее время он почему-то своё мнение переменил. Интересно, почему? Вопрос, впрочем, риторический. И что же делать бедной несчастной женщине, можно даже сказать страдалице, когда перед ней замаячила неиллюзорная перспектива надолго поселиться в тесной комнатке с соломенным тюфяком и окошком с решёткой?
Любой вдумчивый читатель, составивший уже определённое мнение о нраве Маргариты Штайнхаль, без труда отыщет правильный ответ. Точнее, тот ответ, который пришёл в голову несчастной страдалице.
Чтобы отвести подозрения от себя, ей следовало обвинить другого! Кого именно? Того, кто без особых затруднений возбудит подозрения полиции в свой адрес. Лучше всего на роль козла отпущения подходил Реми Куйяр, поскольку его поведение вызывало вопросы прежде. Вспомним: именно его действия стали причиной того, что в доме в ночь на 31 мая не оказалось сторожевого пса… И это именно он забыл или якобы забыл передать пистолет Адольфу Штайнхалю, из-за чего тот оказался полностью безоружен перед лицом убийц.
Поэтому Реми Куйяр прекрасно подходил на роль пособника преступников.
В скором времени после убийства Адольфа Штайнхаля его камердинер был уволен. Реми пошёл учиться на водительские курсы, рассчитывая стать водителем автобуса, однако на свою беду связь с прежними работодателями не утратил. Летом и осенью 1908 года он несколько раз наведывался в Беллвью, где тепло общался как с Маргаритой и Мартой, как и кухаркой Мариеттой Вольф. После того, как в последней декаде октября все они перебрались обратно в дом №6 в тупике Ронсин, бывший камердинер вновь появился на пороге. Маргарита приняла его на работу в довольно условном качестве камердинера, фактически Реми Куйяр должен был делать всю мужскую работу по хозяйству. При этом новый старый камердинер в доме не жил, но каждый день являлся для выполнения поручений. С согласия Маргариты Штайнхаль он оставил портфель со своими вещами на чердаке дома.
Этим-то мамочка и дочка Штайнхали и решили воспользоваться. Каждая из них написала по одному письму, и эти письма были подложены в вещи Реми, хранившиеся в доме. Письмо Марты Штайнхаль, адресованное её бывшему жениху Пьеру Бюиссону, было помещено в большое портмоне с различными бумагами Реми. Портмоне находилось в кармане пальто, опрометчиво оставленного камердинером в комнате Мариетты Вольф, кухарки семьи Штайнхаль. При этом на конверт была наклеена почтовая марка, а затем оторвана так, чтобы след клея остался хорошо заметен. Эта маленькая инсталляция была призвана убедить всякого постороннего зрителя в том, что целью похищения конверта с письмом явилось именно воровство непогашенной почтовой марки. Аналогичный фокус был проделан и с письмом Маргариты Штайнхаль, с той лишь разницей, что конверт со следами отклеенной марки был спрятан на дне портфеля.
То есть мама и дочка устроили маленькую провокацию, подбросив собственные письма, якобы похищенные Реми Куйяром, в вещи камердинера. После этого следовало заявить об их «обнаружении».
Как же можно было навести полицию на этого человека? Маргарита Штайнхаль не стала мучить себя долгими размышлениями и 20 октября просто написала Октаву Хамару письмо, в котором рассказала, что в вещах бывшего камердинера найдены два письма, написанные ею и её дочерью в разное время, которые Реми Куйяр должен был отнести на почту, но вместо этого похитил.
Письмо это отнёс в штаб-квартиру «Сюртэ» Шабрие, тот самый двоюродный брат убитого Адольфа Штайнхаля, что с некоторых пор поселился в доме №6 на правах… да Бог его знает, на каких правах! Поселился и всё. Начальник уголовной полиции, ознакомившись с посланием Маргариты, наживку, однако, не заглотил и ничего уличающего бывшего камердинера в случившемся не увидел. По мнению автора, начальник уголовной полиции моментально догадался, что письма подброшены и Маргарита пытается им манипулировать. Поэтому Хамар ограничился лаконичным ответом, который Шабрие и принёс обратно в дом №6 в переулке Ронсин. Ответ начальника уголовной полиции гласил: «Факты, обличающие Куйяра, несомненно, противоречат представлениям о честности, но не являются наказуемым проступком…» («The facts complained of against Couillard were no doubt contrary to honesty, but not to a punishable misdemeanour…").
И никого арестовывать не стал.
Пассивность Хамара, должно быть, неприятно поразила злокозненную даму, но от реализации задуманного не удержала. Маргарита решила зайти с другой стороны, а именно — устроить сеанс «разоблачения» Реми Куйяра при свидетелях.
Вечером всё того же 20 ноября она пригласила в свою гостиную «нового старого» камердинера и завела с ним разговор о наличии у него прав на вождение автомобиля. Это был предлог для того, чтобы попросить Куйяра показать водительское удостоверение. В это же самое время в гостиной находились посторонние лица — женщина-репортёр по фамилии Барби (Barby), графиня де Тулго (de Toulgoet), сын последней и уже неоднократно упоминавшийся Шабрие. Ничего не подозревавший Реми вытащил портмоне, стал в нём копаться и… Маргарита Штайнхаль «случайно» увидела в нём конверт с чёрной каймой — это было письмо Марты.
Началось то, что в русском языке обозначают словом «разборка». Маргарита потребовала принести с чердака портфель Куйяра, и когда это было сделано, сама же и достала из него собственное письмо. То есть она не побрезговала проводить обыск личных вещей слуги! Какая говорящая деталь, согласитесь… Но это ещё не всё, необходимо пояснить, что упоминавшиеся выше «свидетели» — Барби, графиня и её сын, а также Шабрие — знали о подброшенных письмах и заблаговременно обсуждали с Маргаритой Штайнхаль, как лучше разыграть предстоящую сценку. То есть свидетели фактически свидетелями не являлись — все эти люди ломали перед бедолагой камердинером комедию. Это были подельники, помогавшие Маргарите обмануть Реми Куйяра, дезориентировать его и подтолкнуть к каким-либо неосторожным поступкам или признаниям. Вся эта группа действовала примерно так, как поступают мошенники, обманывающие лоха. Извините автору низкий слог, но описанную сцену можно уподобить именно мошеннической «разводке», то есть циничному и грубому обману, все участники которого следуют заранее продуманному сценарию.
Куйяр, конечно же, был потрясён этими находками. Маргарита Штайнхаль в своих воспоминаниях утверждает, будто камердинер причитал, бормотал: «Я попался!» — и закрывал лицо руками… Хотя репортёр Барби в своих официальных показаниях под присягой ничего такого вспомнить не могла и лишь заметила, что Куйяр опустился в кресло и молчал. Он выглядел потрясённым, но держал себя в руках. Впрочем, его реакция в те минуты никого из присутствовавших в гостиной не интересовала. Маргарита Штайнхаль тут же распорядилась обо всём уведомить Хамара, к которому надлежало отправиться всё тому же Шабрие. Поскольку Хамар несколькими часами ранее отказался принимать какие-либо меры против Реми Куйяра, хитроумная вдовушка решила его к этому принудить. Для достижения нужного результата Шабрие следовало взять с собой портмоне Реми Куйяра с якобы похищенными письмами и по пути в штаб-квартиру «Сюртэ» заехать в редакцию «Матэн». Там ему надлежало отыскать репортёра де Лабрюйера (de Labruyere), рассказать тому о «разоблачении» Куйяра и уже в его обществе отправиться к Хамару.
Расчёт Маргариты Штайнхаль был прост и прозрачен — присутствие журналиста не позволит начальнику уголовной полиции уклониться от принятия того решения, которое было нужно Маргарите. Октав Хамар, человек по-житейски мудрый и к тому же с огромным полицейским опытом, прекрасно понимал мотивы, которыми руководствовалась Маргарита Штайнхаль. Он знал истинную цену этой дамочки и понимал, что она, несомненно, причастна к трагическим событиям в «доме смерти». А потому начальник «Сюртэ» не собирался плясать под дудку этой интриганки.
Выслушав рассказ Шабрие про «разоблачительную» сцену в гостиной и посмотрев на положенный перед ним на письменный стол портмоне Куйяра, начальник уголовного розыска остался совершенно спокоен. Он заявил Шабрие и стоявшему подле де Лабрюйеру, что не притронется к этой вещи и ничего не станет предпринимать до тех пор, пока следователь прокуратуры Лейде не даст ему соответствующих распоряжений.
Начальник уголовного сыска руководствовался старым, проверенным опытом правилом любого разумного оперативного работника: «Если не знаешь, как поступить — поступай по инструкции». Хамар, безусловно, был осведомлён об очень-очень-очень близких отношениях Маргариты Штайнхаль со следователем Лейде и потому, самоустранившись от провокации в отношении Реми Куйяра, предоставил подозреваемой весьма сомнительную честь вовлечь в эту авантюру любовника. Пусть Лейде ей поможет, а потом, когда подойдёт время шапочного разбора, ответит за содеянное.
Шабрие и де Лабрюйер об этом не думали и поступили именно так, как им сказал Хамар — они направились на квартиру Лейде. Шёл уже девятый час вечера, а потому чиновника следовало искать дома. Там, однако, посетители его не нашли и, оставив записку с кратким описанием событий того дня и цели своего появления, направили стопы в редакцию «Матэн». Там Шабрие и де Лабрюйер решили получше изучить содержимое портмоне, с которым уже битый час или даже больше носились по Парижу. Помимо поименованной парочки, в этом увлекательном развлечении — имеется в виду осмотр чужих личных вещей — приняли участие ещё несколько сотрудников редакции газеты.
Извлекая из портмоне его содержимое — визитные карточки, разного рода документы, железнодорожные билеты и тому подобное — любознательная редакционная публика обнаружила маленький бумажный свёрток, а в нём… крупную жемчужину! Жемчужина была просверлена, что свидетельствовало о её креплении в некоем украшении. Украшение явно было недешёвым — один из присутствовавших журналистов определил стоимость жемчужины «на глазок» в 23—25 франков [это приблизительно 73—75 граммов монетарного золота, что по состоянию на середину 2025 года равняется 620 тысячам рублей]. Причём если бы жемчужина не была просверлена, то её цена оказалась бы раза в полтора выше.
Когда Лейде узнал о событиях, связанных с обнаружением в вещах Куйяра писем Маргариты и Марты Штайнхаль, а также крупной жемчужины, вынутой из некоего украшения, то решение оказалось быстрым и хорошо предсказуемым. Он распорядился немедленно взять Реми Куйяра под стражу, то есть сделал то, чего добивалась Маргарита, но что категорически отказался делать начальник уголовного розыска Хамар.
21 ноября 1908 года французские газеты — а следом и пресса всего цивилизованного мира — оповестили о долгожданном прорыве в расследовании двойного убийства в «доме смерти» в переулке Ронсин. Камердинер убитого владельца дома заключён под стражу!
В тот же день Маргарита отправилась в уголовную полицию, дабы сообщить необходимую информацию о найденной жемчужине. Она рассказала, что драгоценность эта была частью кольца под названием «нью-арт», изготовленного ювелиром Гайяром (Gaillard) по эскизу некоего «дарителя», имя которого в документы следствия не попало. Разумеется, Маргарита назвала его имя и фамилию, но понимание политической целесообразности побудило следователя Лейде в протокол их не вносить. Кольцо «нью-арт» числилось в списке семи ювелирных украшений, пропавших в ходе нападения в ночь на 31 мая. Жемчужина для этого кольца была куплена в магазине Дюфайеля (Dufayel). Для подтверждения точности показаний Маргариты Штайнхаль её попросили проехать к ювелиру и в упомянутый магазин в обществе детектива Деше (Dechet). Последний должен был услышать из уст Гайяра и продавцов ювелирного магазина заявления, подтверждающие справедливость сказанного Маргаритой на допросе.
Поездка эта прошла без сучка без задоринки. Ювелир Гайяр вручил детективу копию эскиза, по которому изготавливал кольцо, и его описание — то есть размер жемчужины, массу и пробу золота, размер пальца и некоторые другие детали. Деше услышал всё то, что рассчитывал услышать, и доложил об этом по команде.
Обнаружение жемчужины в портмоне Реми Куйяра крепко привязывало последнего к драматическим событиям в «доме смерти». В сложившейся ситуации «новый старый» камердинер имел всего два выхода — плохой и очень плохой. Плохой выход заключался в признании Куйяром факта кражи кольца «нью-арт», совершённого в ранние часы 31 мая сразу после того, как стало известно о ночном ограблении. В самом общем виде он мог сказать, будто обнаружил кольцо, закатившееся в угол, и решил его украсть в надежде на то, что исчезновение дорогостоящего украшения будет связано с действиями грабителей. А очень плохой выход заключался в признании соучастия в преступлении в составе банды. Если первое признание грозило тюремным сроком продолжительностью в несколько лет, то второе — прогулкой на гильотину.
21 и 22 ноября в доме №6 в тупике Ронсин уголовная полиция проводила обыск, целью которого являлось обнаружение тайных «закладок», которые мог бы оставить Реми Куйяр. Ведь если уж он украл кольцо «нью-арт», то, может быть, исчезновение и других украшений связано с ним?
Во время этого обыска Маргарита Штайнхаль решилась на поступок, который с полным основанием можно охарактеризовать как чудовищный. Она взяла один из своих бриллиантов и… подбросила его на чердак как раз в то время, когда там работали детективы. То есть фактически эта женщина сфабриковала улику, призванную доказать виновность Реми Куйяра! Каково?!
Результат, правда, оказался не совсем тот, на который рассчитывала Маргарита, что, кстати, отлично демонстрирует полное непонимание ею логики «законников». Детективы буквально через минуту или две обнаружили в пыли и мусоре блестящий камушек, подняли его и… усомнились в том, что это драгоценный камень. Они забрали находку с целью показать её ювелиру, но в целом остались довольно спокойны, и Маргарита Штайнхаль догадалась, что результаты обыска дома в глазах полиции выглядят не очень убедительно [с точки зрения доказывания виновности Куйяра].
Нельзя не отметить того, что в воспоминаниях Маргариты Штайнхаль есть моменты поразительные по той тупости, которую демонстрирует автор. Маргарита на голубом глазу признавалась в вещах совершенно постыдных в понимании любого совестливого человека и явно не отдавала себе отчёта, как именно её характеризует написанное. Про фабрикацию улики и обыск личных вещей Куйяра написано чуть выше, но это не единственные признания такого рода. Так, например, Маргарита простодушно призналась в том, что подслушала разговор Реми Куйяра и Александра Вольфа, сына поварихи Мариетты, во время их обеда. Когда молодые люди сели за стол, Маргарита находилась в расположенной рядом кладовке и… своего присутствия не выдала. Какая милая непосредственность, правда?
Ещё более показательным с точки зрения демонстрации моральной тупизны этой дамочки является эпизод, приключившийся вечером 20 ноября во время тех самых событий, в ходе которых в портмоне Куйяра было найдено письмо Марты Штайнхаль. Реми, в какой-то момент сообразивший, что его умышленно впутывают в некую гнусную историю, сел к столу и попросил разрешить ему написать письмо. Маргарита Штайнхаль милостиво разрешила, и по её распоряжению Мариетта Вольф принесла письменные принадлежности. Реми стал писать, и Маргарита, заглядывая через его плечо, сумела прочесть первые строчки, вышедшие из-под его пера. Чтение чужого письма явно не рождало у этой женщины ни малейшего дискомфорта, впрочем, как и последующее признание подобного поведения.
Речь, впрочем, немного не о том. Реми Куйяр написал письмо своей матери, очевидно, рассчитывая передать его для отправки сразу же после ареста. Когда он закончил писать, Маргарита предложила ему отдать это письмо ей, дабы она могла… нет, не отправить его по почте, как, быть может, подумал кто-то из читателей, а прочитать! Задумайтесь на секундочку над этим предложением — она захотела, чтобы оболганный ею человек отдал для ознакомления письмо, адресованное его собственной матери. Каково? Удивительно, как это Маргарита Штайнхаль не приказала ему исповедаться перед ней!
Вызывает оторопь та непосредственность, с которой Маргарита рассказывала обо всех этих событиях. Видно, что никакого чувства неловкости она не испытывала и даже не понимала, как её выходки выглядят в глазах других людей. В такого рода деталях мы видим истинное лицо этой дамочки — совершеннейшей стервы, женщины без образования и должного воспитания, с напрочь отсутствующим чувством собственного достоинства и абсолютно безнравственного поведения. Она считала допустимым всё, что сулило ей выгоду, и вопросами о нравственно-этических ограничениях поведения и допустимости своих поступков вообще не заморачивалась. Поразительное душевное очерствение и глупость в одном флаконе…
Итак, кольцо вокруг Реми Куйяра сжималось. По крайней мере так считали в те дни абсолютное большинство французских обывателей и сама Маргарита Штайнхаль. 23 и 24 ноября французские газеты повторяли информацию о кольце «нью-арт» и несомненном успехе правоохранительных органов.

Но уже 25 ноября тревожный для Маргариты Штайнхаль звоночек прозвучал в виде её приглашения во Дворец правосудия — там находился кабинет следователя Лейде. Энергичная вдова, разумеется, пришла — нет, она примчалась, уверенная в том, что всё идёт по её плану и час торжества совсем близок!
Во Дворце правосудия Маргариту встретил нотариус Обен, который заверил её в том, что всё идёт хорошо, и как бы между делом осведомился: сколько одинаковых жемчужин имелось в её доме? Маргарита, если верить её воспоминаниям, этот странный вопрос проигнорировала, хотя это был серьёзный повод насторожиться — от нечего делать такие специфические вопросы не задают.
Когда Маргарита вошла в кабинет своего друга Лейде, то увидела там несколько человек — знакомых ей ювелиров Гайяра и Сулоя (Souloy), самого следователя Лейде и одного незнакомого человека. Последним являлся адвокат Реми Куйяра по фамилии Буэн.
То, что произошло в кабинете далее, нам неизвестно, поскольку никакого протокола не велось, но мы можем довольно точно это понять по ряду косвенных деталей. Ювелир Сулой, находившийся в кабинете, являлся личным мастером Маргариты Штайнхаль на протяжении почти что полутора десятилетий. Он хорошо знал её украшения в том числе и потому, что сам же изготавливал или переделывал подавляющую их часть. Прочитав в газетах описание кольца под названием «нью-арт», он вспомнил, что занимался переделкой такого точно кольца после 5 июня 1908 года, то есть заведомо позже той трагической даты, когда это кольцо было якобы украдено из «дома смерти». И это кольцо ему принесла Маргарита Штайнхаль, у которой оно было якобы украдено. С этим удивительным заявлением он пришёл к следователю Лейде и всё ему рассказал.
Будем точны — ювелир Сулой рассказал Лейде о том, что в середине июня переделывал не только кольцо «нью-арт», но и кое-какие иные кольца. После того как Лейде ознакомил ювелира со списком пропавших в ночь на 31 мая украшений, Сулой заявил, что тогда же [в середине июня] занимался видоизменением по крайней мере трёх колец из этого списка. Видоизменение выразилось в замене камней на аналогичные, но лучшего качества и большей стоимости. Сулой, по его словам, поинтересовался у Маргариты, в чём состояла необходимость подобной работы, и та ответила, что эти кольца будут подарены ею на свадьбу дочери и станут своеобразным приданым, поэтому она хочет, чтобы подарки эти были наилучшего качества.
На вопрос следователя о времени выполнения этого заказа Сулой ответил, что получил от Маргариты Штайнхаль кольца 12 июня и возвратил их обратно в последних числах месяца, возможно 29 или 30 июня.
Следователь, разумеется, почувствовал надвигающуюся беду. Маргарита Штайнхаль — его многолетняя знакомая и любовница — по меньшей мере трижды заявляла, что кольцо «нью-арт» и ещё три самых дорогих кольца украдены у неё во время нападения таинственных грабителей в ночь на 31 мая. Об этом прямо и недвусмысленно она говорила во время допросов 31 мая, 5 июня и 26 июня, и что же теперь получается — она по меньшей мере трижды солгала?! И не просто солгала, но деятельно принялась маскировать ложь на случай возможной проверки и с этой целью озаботилась тем, чтобы видоизменить якобы похищенные украшения!
Продажный следователь, разумеется, прекрасно осознал опасность сложившейся ситуации для себя лично. Именно поэтому он не предупредил Маргариту о неприятном сюрпризе, ожидающем её во Дворце правосудия. Лейде не мог написать ей записку, поскольку письменный документ подобного содержания Маргарита могла сохранить и в дальнейшем использовать против него же самого.
По этой причине многомудрый следователь не предупредил свою подругу и любовницу о том, что ждёт её в кабинете, но пришёл ей на выручку иначе. Он фактически подсказал Маргарите Штайнхаль такой ответ, который до некоторой степени объяснял, каким образом взятое преступниками кольцо могло оказаться в её распоряжении. Из воспоминаний Маргариты нам известно, что Лейде спросил: существовала ли копия кольца «нью-арт»? Наличие копии до некоторой степени снимало противоречие между тем фактом, что кольцо исчезло в ночь ограбления, и тем, что через две недели Маргарита передала его своему ювелиру — она не настоящее кольцо отдала, а его копию!
Следует понимать, что наличие копий драгоценностей являлось для того времени нормой. Люди тогда проводили в поездках порой многие дни и даже недели, кроме того, в моде были пикники, и для того, чтобы исключить утрату дорогого украшения во время разъездов, богатые мужчины и женщины пользовались их копиями. То есть вопрос следователя, точнее, подсказка, предоставляла Маргарите возможность сохранить лицо, но дамочка этим шансом не воспользовалась. Она испугалась того, что признание существования копии кольца «нью-арт» позволит Реми Куйяру отвести обвинения в соучастии в ограблении, и потому заявила, будто данное кольцо существовало в единственном числе.

Это нам известно из её собственных воспоминаний. Необходимо повторить, что никакого протокола во время этого допроса или, точнее, беседы, не велось, и потому мы можем лишь догадываться, кто и что именно говорил. Отсутствие протокола объективно играло на руку как следователю Лейде, так и самой Маргарите Штайнхаль. Следователь явно рассчитывал на благоразумие дамочки, её способность наперёд просчитывать ход событий и упреждать неблагоприятные ситуации, но… он явно просчитался. Нельзя, конечно же, не сказать о том, как сама Маргарита Штайнхаль описала эту воистину судьбоносную беседу в своих воспоминаниях. Сразу скажем, что её рассказ крайне сумбурен, непоследователен и по большому счёту беспредметен — из него решительно ничего невозможно понять. Имеет смысл привести отрывок, который даст объективное представление о том, как Маргарита пыталась задурить головы своим читателям: «Я вдруг поняла, что не могу ясно мыслить, не в состоянии осознать происходящее… Месье Сулой сделал этот талисман много лет назад… Он хорошо меня знал. Конечно, он не мог поверить в то, что я способна на дурной поступок. Почему же Лейде столь внезапно обратился к месье Сулою, чтобы „сделать заявление“? Он принял меня за преступника? Что всё это значило?..»
Перед нами типичный образчик демагогии Маргариты, которой наполнены её воспоминания сверх всякой меры. Но речь сейчас не о литературных достоинствах её творческих потуг — таковых не существует в принципе — а о поведении Маргариты во Дворце правосудия 25 ноября 1908 года. Маргарита тогда не поняла серьёзности момента, либо посчитала, что рассказ Сулоя о переделке украшений ничем ей не грозит. Дескать, никто её не арестует и обвинений с Реми Куйяра не снимет. Как бы там ни было, Маргарита проявила совершенно неуместное в той обстановке упорство и удивительную негибкость, о чём очень скоро ей пришлось пожалеть.
Вечером всё того же 25 ноября в доме №6 появились репортёры Гютен (Hutin) из газеты «Echo de Paris» и де Лабрюйер (de Labruyere) из «Матэн». Также приехала и женщина-репортёр Барби, но она в беседе не участвовала, а всё время находилась в соседней комнате, удерживая Марту и Шабрие от попыток поговорить с Маргаритой. Гютен приехал немногим ранее 9 часов вечера, а де Лабрюйер — около 10 часов. Оба были крайне встревожены. Гютен разговаривал с несколькими юристами из Дворца правосудия, в том числе и следователем Лейде, а де Лабрюйер имел возможность побеседовать с министром юстиции Аристидом Брианом. Последний состоялся как политик левого толка, а потому был совершенно чужд сословного чванства; в том, что он накоротке общался с журналистами, не было ничего необычного.
Гютен и де Лабрюйер растолковали Маргарите Штайнхаль истинное состояние её дела. А именно: всем уже очевидно, что она пыталась оболгать Реми Куйяра, найденные в портмоне последнего письма и жемчужина из кольца «нью-арт» подброшены ею и никем иным. Впрочем, если быть совсем точным, то о письмах никто уже не упоминал, история с кольцом, якобы взятом грабителями, а потом отданном Маргаритой ювелиру, перевешивала любые письма! Пресловутое ограбление не являлось ограблением — всем уже ясно, что это была инсценировка. Следователь Лейде, столь опрометчиво подыгрывавший Маргарите на протяжении многих месяцев, уйдёт в отставку в ближайшее время, карьера его кончена, поскольку он глубоко скомпрометирован связью с кровавой вдовой. Для Маргариты же ситуация складывается наихудшим образом, и если она хочет выйти из этой истории, сохранив лицо и, по возможности, свободу, то сейчас ей даётся последний шанс. Она может сообщить свою версию событий, и её рассказ будет услышан жителями Франции, репортёры гарантировали, что написанная ими статья выйдет без цензуры или редакторской правки. При этом и Гютен, и де Лабрюйер несколько раз повторили на разные лады: «Хватит россказней про мужчин в чёрных балахонах и рыжеволосую женщину в накидке! Прекратите врать, скажите правду, и общественное мнение вас всегда оправдает».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.