
Бесплатный фрагмент - Элитный погребальный обряд в древней руси
По материалам курсовой работы…

Введение
Когда задумываешься о жизни древних народов, чьи города давно скрылись под землёй, а языки умолкли, невольно задаёшься вопросом: как приблизиться к пониманию их мира? Как услышать отзвук их мыслей и чувств? Исторические хроники зачастую кратки и пристрастны, былины и сказки изменчивы подобно речному течению. Но есть один молчаливый, но красноречивый свидетель — последний приют человека, его погребальный обряд.
Обращаясь к погребальным обычаям древней Руси, особенно к обрядам её знати, мы прикасаемся не к смерти, а к самой жизни во всей её полноте. Мы видим не просто ритуал прощания, а сложную, глубоко осмысленную картину мира. Это своего рода «книга», написанная не на пергаменте, а в самой земле, «книга», где каждый предмет, каждое действие исполнено символического смысла. Изучая её, мы читаем о том, во что верил человек, как он представлял себе мироздание, какое место отводил себе в нём и как выстраивал отношения с себе подобными.
Труд археологов, таких как Д. А. Авдусин, раскрывших курганы Гнездова и Старой Ладоги, и проницательность историков, анализировавших византийские хроники и записки путешественников вроде Ибн-Фадлана, даровали нам возможность эту «книгу» прочесть. Мы видим, как на протяжении IX—XIII веков обряд менялся: пламя погребальных костров уступало место мирному захоронению в земле, а вместе с кремацией уходили в прошлое и одни представления о пути в загробный мир, сменяясь другими. Но сквозь эти изменения неизменной оставалась одна мысль: прощание с человеком, особенно с тем, кто нёс на себе бремя власти и ответственности, было важнейшим общественным делом. Оно было призвано не просто предать тело земле или огню, но утвердить незыблемость порядка, связь поколений, продемонстрировать величие рода и сакральность власти князя.
Цель этого скромного труда — не просто перечислить факты или описать инвентарь богатых захоронений. Нет, задача гораздо глубже: попытаться понять, как через погребальную практику древнерусская элита осмысляла себя, свою власть и свой долг перед предками и потомками. Как в ритуале проявлялся сложный сплав языческих верований и постепенно проникающего христианского мировоззрения — тот самый духовный синкретизм, что составил основу уникального древнерусского характера.
Это размышление — не только об истории. В конечном счёте, оно о вечном: о человеческом достоинстве, о памяти, о том, как живой человек пытается осмыслить непостижимую тайну конца, оставляя после себя не просто прах, но знак — знак своей веры, своей любви к жизни и своей надежды.
Ритуальные практики: кремация и ингумация
Задумаемся над тем, чем в нашем представлении вообще является, погребальный обряд? Разумно было бы предположить, что последний земной поступок человека, свершаемый, разумеется, руками его близких. Поступок этот обращён не в прошлое, а в будущее — в ту жизнь, что ожидает усопшего за порогом белого света, и в ту память, что останется о нём среди ныне живущих. Ведь смерть это врвсе не точка, лишь многоточие, поставленное в конце земной биографии каждого, за которым следует новая, сокрытая от посторонних глаз глава вечного мира.
Именно по этой причине способ предания тела земле или огню является важным предметом дискуссии современных исследователей истории и теологии. Никогда не было это пустым звуком и для древнего человека. Вообразите: Разве мог он помышлять в контексте простой формальности, совершенно безразличного техническим действия над результатом собственной жизнедеятельности? Разумнее было бы более разумно полагать, что в представлении наших предков это был итоговый, полный глубокого смысла жест, в котором выражалась вся сумма представлений о мироздании, о месте в нём человека, о долге живых перед ушедшими и почивших — перед грядущими поколениями и эпохами. В выборе между кремацией и ингумацией — сожжением и погребением — заключалось не просто различие обычаев, а целое мировоззрение, два различных способа осмысления самой сути перехода из мира вещного в мир вечный.
Вслушаемся в это слово — переход. Оно ключевое. Древний человек не мыслил смерть как полное и бесповоротное исчезновение с абстрактной карты мироздания, стирание своего культурного кода. Он видел в ней великое таинство преображения, тернистый путь, требующий как должной духовной подготовки, так и практической помощи от тех, кто остался на этом берегу бытия. Погребальный обряд как раз и был этой помощью — своего рода духовным снаряжением, мостом, переброшенным через пропасть небытия.
Каждый элемент этого обряда — от величественного кургана до скромного горшка с пищей — был словом в самобытном языке, понятном и живым, и мёртвым. Этими словами живые вступали в диалог с вечностью. Они говорили: «Мы помним о тебе. Мы провожаем тебя с почестями, подобающими твоему званию. Мы снабдили тебя всем необходимым для пути и желаем счастливого странствия в мире ином».
Таким образом, изучая погребальные практики, мы читаем не протоколы о смерти, а удивительные по своей глубине тексты о жизни. Мы узнаём, чего страшились и на что уповали наши предки, как понимали они справедливость, долг, честь, красоту и любовь. Эти обряды были зеркалом, в котором отражался отнюдь не лик смерти, а живая, щепетильная, полная надежд душа целого народа.
И потому, приступая к данному исследованию, мы будем стремиться увидеть за археологическими артефактами и историческими описаниями не просто набор ритуалов, а нравственный и духовный выбор человека Древней Руси. Выбор, который и сегодня, спустя столетия, заставляет нас задуматься о вечных вопросах: что остаётся от человека после его ухода и в чём заключается наша, живых, последняя обязанность перед ним?
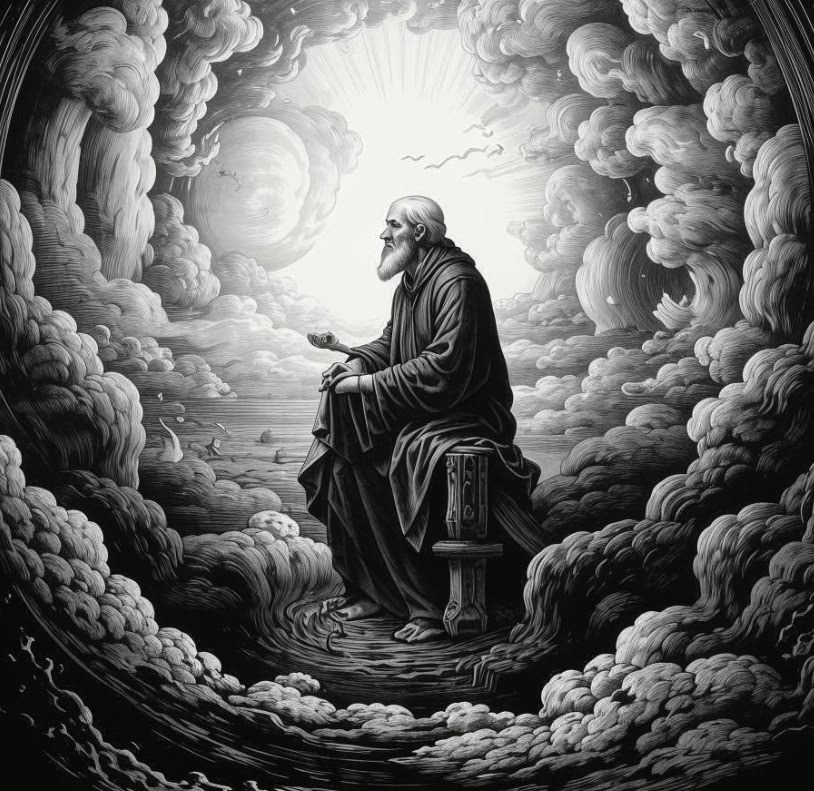
.
Кремация. Этот древний и торжественный обряд славян-язычников, представляется мне не актом уничтожения, а актом освобождения. В нём — ключ к пониманию целого мироощущения, особого взгляда на сам процесс жизнедеятельности и его окончание. Вспомним, какую роль играл огонь в повседневном быту: он обогревал людей, освещал, кормил, защищал их от хищников. Он был великолепным даром богов, выступая связующим звеном между небом и землёй. И потому доверить тело покойного именно огненной стихии означало совершить высший, сакральный акт.
Огонь — стихия быстрая, чистая, всепоглощающая. В его стремительных языках виделся нашему предку небесный посланец, могущественный и безжалостный проводник. Всего за несколько часов он совершал то, на что земле потребовались бы долгие годы: он не уничтожал тело, но стремительно отделял душу-«пар» от бренной плоти, чтобы та, освобождённая от земных оков, очищенная от скверны, могла отправиться в свой долгий путь в луга вечной весны, где ранее нашли свой приют души предков.
Это был уход стремительный, яркий и потому — в контексте того времени — героический. Не случайно этот обряд был столь созвучен духу дружинной культуры с её идеалами доблести, чести и быстротекущей, как вспышка молнии, жизни. Воин, чьё существование могло оборваться в любой миг, должен был и уходить не медленно и болезненно, а подобно пламени — мощно и зримо. Погребальный костёр был достойным финалом его земного пути, последним «подвигом», совершенным уже силами его сородичей. Пламя, взмывающее к небу, было зримым символом восхождения его души к высшим сферам, к сонму славных предков-воителей.
Этот обряд говорил о своеобразной эстетике смерти, присущей языческому мировоззрению. Смерть не прятали, не закапывали в глубь земли в молчаливой печали. Её выносили на открытое пространство, на высокий речной берег, и предавали самой величественной стихии, превращая прощание в публичное, трагическое, но светлое действо. Это была не попытка скрыть конец, а стремление провести его с максимальным достоинством, в огненном сиянии, соответствующем значимости ушедшей жизни.
Таким образом, кремация была не просто «способом утилизации», а глубоко осмысленным ритуалом трансформации. Она отражала веру в то, что сущность человека нетленна, а смерть — это лишь момент болезненного, но необходимого очищения для перехода в лучший, светлый мир. И в этом огненном пути была своя суровая поэзия и своя неоспоримая правда, веками согревавшая сердца тех, кто провожал своих близких в зареве погребальных костров.
Археологи, раскапывая высокие курганы в Гнездове или под Черниговом, находят не просто пепел. Они прикасаются к тщательно обдуманному и исполненному любви действу. После того как очищающее пламя костра совершало свою работу, родственники с особым тщанием собирали прах усопшего — не оставляя его на произвол судьбы, но бережно помещая в глиняную урну. Эта урна становилась новым, преображённым вместилищем сущности ушедшего человека.
Но ещё красноречивее то, что помещали рядом. Вещи, сопровождавшие прах, — это отнюдь не случайный «инвентарь», как может показаться современному глазу. Это — продуманный и символический сбор в дорогу, снаряжение для путешествия в мир иной. Меч полагался воину не просто как ценность, но как необходимое орудие для отражения врагов на неведомых тропах загробного мира. Украшения — гривны, бусы, подвески — подчёркивали не богатство, а статус и достоинство прибывающей к предкам души. Всё это было зримым свидетельством любви, заботы и, что важнее всего, уверенности в том, что жизнь продолжается, лишь меняя свою форму.
Выбор места для последнего пристанища был столь же глубоко символичен. Курганы насыпались на высоких, открытых местах, чаще всего на крутых берегах рек. Этот выбор объяснялся не только эстетикой. Высота делала курган видимым за многие вёрсты, превращая его в вечный памятник, напоминание о славе рода, вписанное в саму географию края. Но был и другой, сакральный смысл: считалось, что с высоты душе легче было подняться к небу, в ирий. Река же, служившая главной дорогой для живых, мыслилась и как возможный путь в загробный мир.
Таким образом, курган был не просто могилой. Это был сложный символ, объединявший в себе несколько смыслов. Во-первых, связь с предками — он был зримым воплощением родовой памяти. Во-вторых, утверждение статуса — его величие говорило о значимости ушедшего для всего общества. И наконец, помощь душе — он был последним земным пристанищем и точкой отсчёта для её вечного пути.
Создавая эти земные пирамиды, древние русичи не просто хоронили прах. Они возводили память, стремясь преодолеть забвение и утвердить непрерывность рода перед лицом вечности. Курган был мостом, брошенным через пропасть смерти, — мостом, сложенным из земли, огня и бессмертной человеческой любви.

древнерусский курган рис.1
.
С принятием христианства обряд резко меняется. Это не было простой сменой ритуала; это был подлинный смысловой переворот в сознании, глубокая духовная революция. Ингумация — погребение тела в лоне матери-земли — приносит с собой иное, не менее сильное и возвышенное чувство: чувство покоя, терпения и надежды.
Если огонь языческой кремации был символом стремительного освобождения, то земля христианского погребения стала символом укоренённости, ожидания и таинственного преображения. Христианское учение о всеобщем воскресении плоти на Страшном суде коренным образом изменило отношение к телу. Из «темницы души», какой оно нередко виделось в античной философии, тело стало божественной и неприкосновенной обителью духа, хоть и временно уснувшей. Его уже не следовало разрушать очищающим пламенем; его надлежало с благоговением сохранить, предав мягким и плодородным недрам земли-кормилицы, дабы в назначенный Богом час оно пробудилось к новой, вечной жизни.
Это новое отношение рождало и иную эстетику прощания. Тело не предавали огню на виду у всех, а бережно, почтительно готовили к последнему пути: омывали, облачали в чистые одежды, складывали руки на груди в молитвенном жесте. Его укладывали в могилу, ориентируя по христианскому обычаю — головой на запад, чтобы при воскресении он мог восстать, обратив лицо навстречу восходящему солнцу, символу Христа.
Сама могила превращалась из точки стремительного вознесения в место покоя и тихого ожидания. Над ней не насыпали гигантских курганов, утверждавших мирскую славу, а ставили скромный крест — знак искупления и обещания будущего воскресения. Это был акт великого смирения перед волей Божией и акт великой надежды, простирающейся пределы земного бытия.
Таким образом, переход к ингумации знаменовал не упадок или упрощение, а усложнение и углубление представлений о жизни и смерти. Он утверждал ценность не только души, но и всей целостной человеческой личности, обречённой, по христианской вере, на телесное восстановление и вечное бытие. В этом обряде проявлялось новое, проникновенное чувство святости самой жизни, доверенной человеку и сохраняемой для его полного преображения в вечности.
Этот переход рождал удивительные и порой противоречивые сочетания старых и новых обычаев. О том, как в течение долгого времени в могилах соседствовали христианский крест и языческий горшок с пищей, мы поговорим в следующем эссе, посвящённом мудрости «двоеверия».
.
Это был уже не стремительный полёт в пламени, а тихое, мирное упокоение. Тело укладывали в гроб, словно в дом, руки складывали на груди в молитвенном жесте, обращённом к вечности. Казалось бы, новая вера утвердилась полностью. Но мудрая жизнь народная не знает резких скачков; она, как вода, обтекает препятствия, впитывая в себя всё ценное из прошлого.
Долгое время, в X—XI веках, в могилах знатных людей можно видеть удивительное, на первый взгляд, смешение традиций. Тело погребено по-христиански — в земле, в гробу, в соответствии со всеми канонами. А рядом, на дно могильной ямы, поставлен горшок с ритуальной пищей или лежит любимая вещица покойного — боевой топор, украшение. Словно бы по старой, языческой привычке, душа не могла отказаться от заботы о его земных нуждах в ином мире.
Как расценивать это соседство? Современные исследователи и вслед за ними строгие книжники древности могли бы назвать это «невежеством» или «пережитком». Но такой взгляд был бы поверхностным и несправедливым. То, что мы иногда поспешно именуем «двоеверием», на деле является проявлением глубокой, трогательной человечности, постепенно и бережно осваивающей новую веру.
Народное сознание не видело здесь противоречия. Христианство принесло великую идею спасения души, Царствия Небесного, вечной жизни. Но сердце, исполненное любви к ушедшему, не могло сразу отказаться от тысячелетней традиции практической заботы. Положить в могилу горшок с кашей или оружие — это был не вызов христианскому учению, а инстинктивный, идущий из самых глубин души жест: «Мы не оставляем тебя одного. Мы даём тебе то, что может пригодиться. Мы заботимся о тебе, как и прежде».
Этот синтез был мостом, который сама жизнь перекинула между двумя великими эпохами. Он показывал, что новая вера ложилась не на пустое место, а на благодатную, подготовленную почву древних представлений о долге, любви и памяти. Горшок с едой в христианской могиле — это не признак неверия, а свидетельство того, что вера ещё не отделилась окончательно от быта, от повседневности, от простых и вечных человеческих чувств.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.