
Бесплатный фрагмент - Французская революция 1789–95 годов в освещении И. Тэна
В. Герье. Французская революция 1789–95 годов в освещении И. Тэна.
С портретом И. Тэна и 32 портретами и иллюстрациями
Санкт-Петербург, издание А. С. Суворина 1911
Предисловие
Книга И. Тэна совершила перелом в суждениях о французской революции 1789–95 годов. Она не только вынесла на поверхность истории огромную массу фактов прежде неизвестных или не замечаемых, она не только ярко осветила такие стороны революционного движения, которые оставались в тени, — но она заменила самую мерку этого движения новою. Такое крупное явление в современной историографии должно было привлечь к себе внимание всех изучающих историю, и особенно преподавателей её. Это и побудило меня посвятить четырем томам «Истории возникновения современной Франции» Тэна ряд отдельных очерков, которые появились на страницах «Вестника Европы». Ознакомление читателей с книгой Тэна я считал тем более важным, что русское общество знакомилось с французской революцией лишь по апологиям её, Тьера, Мишле́ и Луи Блана, а книга Тэна не находила себе переводчика.
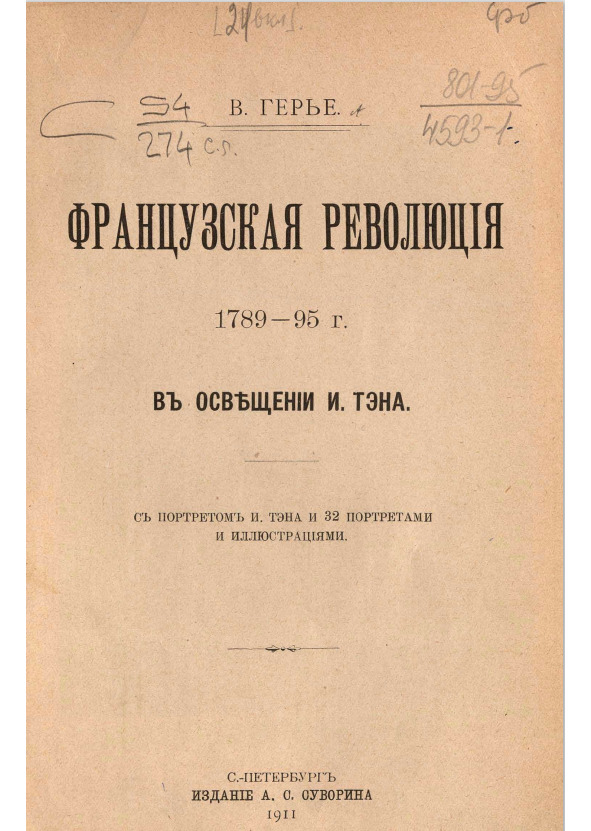
Сочинение Тэна не учебник истории революции, в котором отмечаются год за год, с известной равномерностью выдающиеся события эпохи. Он едва касается дипломатической и военной истории революции, которая так часто служила другим историкам отводом глаз от внутренних насилий и террора. Тэн не пересказывает общеизвестное, но зато обогащает историю революции новыми фактами и освещает сконцентрированным светом существенные её стороны, невыясненные его предшественниками, прежде всего происхождение революции. До Тэна указывали, как на причину революции, только на разные недостатки старого порядка, не принимая во внимание, что эти недостатки требовали реформ, а не революции. Тэн впервые выяснил, какую существенную роль при её возникновении играл и какое влияние имел на её ход революционный дух — l’esprit révolutionnaire, обуявший руководящие классы французского общества. Тэн превосходно анализировал этот дух и его происхождение. Как известно, Тэн был специалистом в психологии и давно настаивал на применении психологического анализа к истории. В данном случае он сам оправдал свой метод в блестящем опыте.
Торжество революционного духа, т.е. настроения, сложившегося из веры в отвлеченные политические догмы, из политических страстей и классовых интересов — обусловливалось обстоятельствами, также впервые выясненными Тэном. Когда по Франции разнеслась весть, что король созывает Генеральные штаты, или народ, как толковали этот акт, Францию охватила смута, стихийная анархия — l’anarchie spontanée, как ее называет Тэн. На описание этой смуты и собирание фактов, ее характеризующих, Тэн положил не мало труда; и читатель выносит из книги Тэна впечатление, что задолго до открытой революции в Париже вся Франция уже была охвачена революцией, состоявшей в том, что везде буйствовала толпа, а власти везде бездействовали. В деревнях анархия выражалась в погромах, пожарах, грабежах, уничтожении чужой собственности и прекращении всяких платежей, частных и казенных. В городах анархия проявлялась в насильственном уничтожении застав для сбора акциза, также в грабежах и всеобщем неповиновении.
Эта стихийная анархия поддерживалась тем, что в самом начале революции центральная власть была парализована. Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием, а это собрание присвоило себе несмотря на протест короля, учредительную власть. С этой минуты во Франции не было более правительственной власти: королевская власть была подорвана, а многоголовое Учредительное собрание не представляло собою правительства. Таким образом анархия становилась во Франции хронической, или, по выражению Тэна, за стихийной последовала анархия, упроченная законодательством. Дело в том, что Учредительное собрание, разрабатывая новую организацию Франции и оставляя за королем и его министрами исполнительную власть, лишило их всяких исполнительных органов, а всю административную и судебную власть поручило местным выборным органам, с весьма слабым иерархическим подчинением друг другу и с предоставлением муниципалитетам, т.е. городским и волостным управам, не только заведывание полицией и городской милицией, но и распоряжение местными войсковыми отрядами.
Недостатки конституции 1791 года были и прежде выставлены на вид её критиками, но еще никто из них не давал такой полной и обоснованной картины внутренней анархии Франции, как Тэн, и никто не выяснил так убедительно, как он, её неминуемые последствия.
В государстве, утратившем свой центральный орган, возникает, если оно живуче, новый вместо прежнего — лучший, или худший. Так было и во время французской революции. Прежние её историки, исключительно посвящая свое внимание заседаниям законодательных собраний, не замечали знаменательного факта, что преобладающая в государстве сила мало-помалу сосредоточивалась вне этих собраний. Колыбелью этой новой силы были политические клубы, преимущественно якобинский. В выяснении и должной оценке этого факта заключается капитальная заслуга Тэна. С полным основанием он озаглавливает эпохи революционной истории не названием сменявшихся законодательных собраний, а ролью, сыгранною якобинцами: за эпохой анархии у него следует эпоха завоевания Франции якобинцами (la conquête jacobine), а за этим — эпоха владычества якобинцев (le gouvernement jacobin). В этих отделах своей истории Тэн снова становится неутомимым исследователем, собирающим бесконечную вереницу фактов (les petits faits) для своей исторической картины — роста якобинского владычества и его последствий, но эта кропотливая работа снова освещается психологическим методом.
Тэн задолго до своего обращения к истории признал якобинца господствующим типом французской революции — подобно типу пуританина в английской революции; отсюда необходимость психологического объяснения происхождения этого типа. Здесь, в своей истории революции, он и дает обстоятельное объяснение происхождения этого типа из взаимодействия психических черт и влияния исторического момента. Затем он следит за постепенным обострением этого типа, размножением его и захватом власти в Конвенте, выразившемся в организации чисто якобинского комитета общественного спасения, ознаменовавшего собою наступление систематического террора. Последний отдел книги посвящен характеристике этого террора и подведению его итогов, при чем оказывается, что ужасы гильотины, обращенные преимущественно против имущих классов, представляли собою лишь небольшую часть страданий, обрушившихся на французский народ при якобинском владычестве.
Критический анализ, которому Тэн подвергает государственные и социальные теории якобинства, посредством изложения их фактических результатов, тем вразумительнее, что он противополагает этим теориям истинные принципы человеческого общежития, которые одни лишь в состоянии предохранить демократию от одичания, от состояния тех дикарей, которые, по словам Монтескьё, срубали дерево, чтобы воспользоваться его плодами.
Печатая в свое время свои критические очерки книги Тэна о революции, я был далек от мысли, что мне придется быть очевидцем аналогического потрясения в России. Издавая теперь отдельной книгой эти очерки с необходимыми дополнениями и изменениями, я полагаю, что освещение, данное Тэном французской революции, имеет в настоящее время для русских читателей новый интерес, являясь в то же время освещением и недавно пережитых ими событий. И мы пережили возраставшее за последние десятилетия революционное настроение, слагавшееся из веры в отвлеченные неясные теории, и из идеализации политических революций, основанной на простой подражательности и плохом знакомстве с историей, — настроение, захватившее даже людей, стоявших близко к науке и к практической общественной деятельности. И мы пережили тяжелый политический кризис, когда люди, призванные к участию в законодательстве, протянули руки к правительственной власти и, грозя восстанием и гневом народа, требовали, чтобы «исполнительная власть» покорилась им. На наших глазах уже намечалась и сила, собиравшаяся опутать Россию своими сетями на подобие якобинской организации. На другой день после объявления манифеста 17 октября съезд главных деятелей освободительного движения опубликовал свой манифест, в котором объявил задачей конституционно-демократической партии достижение Учредительного собрания, при чем Государственная Дума может служить для партии лишь одним из средств на пути к осуществлению той же цели, с сохранением постоянной и тесной связи с общим ходом освободительного движения вне Думы. Для достижения своей цели съезд предначертал организовать повсюду губернские и порайонные комитеты партии с подчинением их центральному комитету, предоставлявшему себе общее руководство. В воззвании к народу центральный комитет заявлял, что «сам народ должен через своих выборных управлять всеми делами в государстве, писать законы и устанавливать порядки». Последнее же слово этого воззвания гласило: «А когда придет время выбирать народных представителей, надо сделать так, как укажет комитет партии, потому что, если действовать вразброд, выбирать кому кто приглянется, то никто не попадет в Думу из тех, кому надо попасть для пользы народа!» [1] — А что могло бы из этого выйти, об этом подробно свидетельствуют два тома Тэна о хозяйничании якобинцев во Франции. К счастью, эти затеи не осуществились. В этом отношении аналогия между французской революцией и «освободительным движением» прерывается. Россия вышла из смутной годины с обновленным, повышенным политическим строем и с законодательной программой, обещающей развитие экономического благосостояния и культурный подъем массы сельского населения. В высшей степени характерно при этом, что поборники «освободительного движения», во всем руководившиеся примером революции 1789 года, отступили от неё именно в этом отношении. Французская революция была, по крайней мере в своем начале, действительно освободительным движением, избавивши миллионы французских крестьян от пережитков старины и стеснительных сервитутов и сделавши их свободными собственниками земли.
Мы заключаем наше предисловие историческим воспоминанием, которое может послужить оправданием и самой книги. После террора молодая графиня де Шатенэ, семья которой была одной из его жертв, встретилась в знакомой семье в городке Шатильоне с 26-летним, молчаливым, генералом Бонапарте, на пути его в Париж. Между ними завязался разговор, продолжавшийся четыре часа. Речь коснулась, конечно, и террора. Наполеон объяснил своей собеседнице, что армия была непричастна к террору, даже мало знала о нем. Он прибавил к этому, что можно делать зло, можно даже много его натворить, не будучи на самом деле злодеем: какая-нибудь подпись, необдуманно сделанная, может стоить жизни многочисленных жертв. «Картины, сказал он, на которых бы развертывалось, в действиях и сценах, зло, проистекшее от решения, принятого необдуманно, вот что следовало бы часто выставлять перед глазами людей; и тогда человечество находило бы в них самих охрану и убежище от грозящего ему зла».
«Тысячи раз, прибавила рассказчица, эта мысль приходила мне на память».
В. Герье.
Глава первая. Историки Революции
1. Предшественники Тэна
Самым крупным из исторических событий нового времени по впечатлению, произведенному им на современников, и по его последствиям для потомков, самым важным по обширности его влияния и по практическому его значению нужно, конечно, признать французскую революцию конца XVIII века; в отличие от других аналогических по названию явлений в истории Франции, ее называют великой революцией. Это событие было завершением всей предшествовавшей истории этой страны и послужило основанием для дальнейшей её истории; оно было причиной возрождения всей юго-западной части европейского материка, внесло новые идеи и учреждения в общеевропейскую жизнь и оставило неизгладимые черты на современной цивилизации. Поэтому, без изучения и без свободной от предрассудков оценки французской революции нельзя верно понять ни прошлой, ни современной истории Франции, нельзя вникнуть в причины, определившие историю значительной части европейских государств в XIX веке, нельзя, наконец, дать себе ясного отчета о движении нашей духовной жизни и стоять на уровне современной цивилизации.
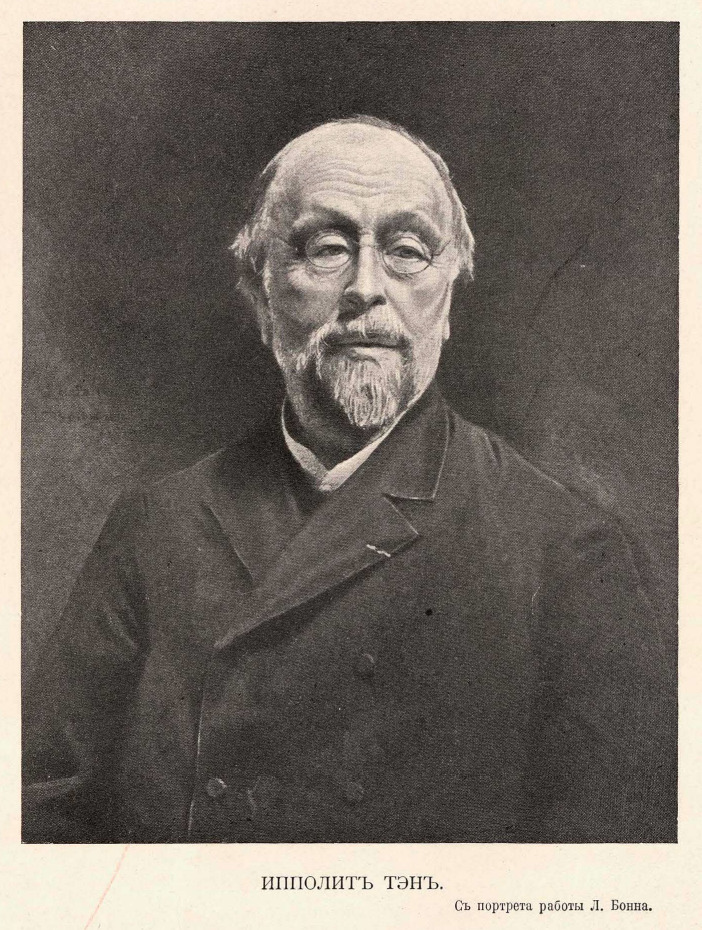
Но изучение и оценка исторических событий всегда сопряжены со значительными затруднениями. С литературным и художественным произведением легко познакомиться; оно представляется цельно и непосредственно эстетическому чувству читателя или зрителя. Даже если подступаешь к нему с предубеждениями, оно постепенно берет свое и иногда бессознательно увлекает критика за тесные рамки школы или преданий. Исторические же события представляются наблюдателю не непосредственно; их можно изучать лишь в зеркале, в котором они отражаются, т.е. с помощью какого-нибудь исторического сочинения. Но дело в том, что никакое историческое сочинение не может быть действительным зеркалом событий, т.е. механическим, пассивным отражением их, ибо всякое сочинение есть не только дело индивидуального творчества, но и плод той эпохи, той теории, того мировоззрения, под влиянием которого писал историк. И нигде это явление не обнаруживается так ясно, как в литературной истории французской революции. Во всех замечательных сочинениях об этом событии мы видим последовательный отголосок тех политических теорий и стремлений, тех надежд и настроений, которые пережило французское или европейское общество в XIX веке. Кто незнаком с богатой умственной жизнью этого общества, с влиянием, которое оно имело на современных историков, и с интересами, в виду которых последние приступали к своей литературной деятельности, — тот не будет иметь ключа к их произведениям. Исторический процесс, начавшийся с французской революции, продолжает совершаться, и каждый момент этого процесса отражался в особом определенном взгляде на французскую революцию и различных её деятелей, и служил особой точкой отправления для известных историков революции.
Вследствие этого, для изучения великого события, о котором мы завели речь, недостаточно простого знакомства с сочинениями, в которых оно описано. Необходимо каждое из таких сочинений оторвать, так сказать, от почвы, на которой оно выросло, изучить среду, отразившуюся на историке, познакомиться с его идеалами и стремлениями, найти его угол зрения, чтобы ясно понять распределение света и тени в его картине. Одним словом, необходим критический разбор каждого из этих произведений.
Справедливость этих замечаний легко доказать на каждом из наиболее известных сочинений о французской революции, на сочинениях Тьера, Минье, Луи Блана, Мишле, Зибеля, Дювержье-де-Горанна [2] и Кине. Все названные здесь нами произведения знаменуют собою различные эпохи, пережитые французским обществом после революции, и отражают на себе различные моменты внутренней истории этого общества от восстановления легитимной монархии до владычества народного избранника, Наполеона III. Все авторы приведенных сочинений (за исключением автора вышеупомянутой немецкой истории революции) принадлежали в свое время к оппозиции, их сочинения являются, таким образом, выражением взглядов оппозиционной части общества, той части, которая своим неудовольствием подготовляла предстоявший переворот и которой было суждено господствовать в последовавшем затем периоде. Так, Тьер является представителем либеральной журналистики с революционным оттенком, которая содействовала свержению монархии легитимизма. Луи Блана и Мишле́ можно считать представителями двух главных оппозиционных стремлений, подкопавших силу и популярность конституционной монархии Людовика-Филиппа — оппозиции социалистической и оппозиции демократическо-республиканской. Наконец, сочинения Дювержье-де-Горанна и Кине, вышедшие в 1857 и 1865 годах, указывают на двоякую оппозицию в французском обществе против безответственного представителя народовластия — на оппозицию, исходившую из кругов, оставшихся верными преданиям парламентарной монархии, и, с другой стороны, на оппозицию, желавшую восстановить народовластие в республиканских формах. При этом нельзя не обратить внимание на то, что единственное французское сочинение, рассматривавшее революцию с точки зрения конституционной монархии, вышло в то время, когда эта монархия перестала существовать во Франции; да и это сочинение представляет только сжатый анализ общего хода французской революции, а не последовательный рассказ событий, так что за изложением революции с парламентарной точки зрения мы должны обратиться к сочинению Зибеля, первый том которого вышел около того же времени (1853).
Вследствие такой солидарности названных историков с известными стремлениями современного им общества, задача их очень усложнилась. Каждый из них имел в виду не только события и людей прошлого, но, можно сказать, столько же людей настоящего, и желал воспользоваться историческим материалом, чтобы дать урок современникам, ободрить одних, запугать других. Так, Тьер и Минье желали доказать господствовавшим легитимистам, что революция — не заблуждение и не преступление, что якобинская диктатура была вызвана борьбой с внутреннею реакцией и иностранным нашествием, и что ужасы террора были спасением Франции. Луи Блан стремился доказать способом гегелевской диалектики, что история человечества ведет к установлению коммунизма, что французская революция была началом новой блаженной эры, и что те из вождей революции, которые наиболее сделали для осуществления братского идеала, должны считаться благодетелями человечества. Вдохновленная книга Мишле является реакцией республиканского идеализма против кровавой диктатуры, и реакцией демократического народничества против аристократии вождей. В его изображении революция представлена стремительным потоком, ринувшимся из недр народной жизни, поднимавшим и уносившим по своей воле честолюбивых марионеток, думавших управлять потоком по своим узким взглядам — и на счет этих «марионеток» отнесено в изложении Мишле все кровавое, все своекорыстное, все, что оскорбляет приверженца гуманности и свободы.
Наконец, историки, преданные принципам парламентарной монархии, изучали революцию для того, чтобы исследовать основание и условия конституционного порядка, и показать, по каким причинам и вследствие каких ошибок этот порядок не установился во Франции в конце XVIII века. Сочинение Зибеля имело, кроме того, задачею выяснить истинное отношение революционной Франции к остальной Европе и, вопреки уверениям французских историков, доказать, что ужасы якобинской диктатуры были излишними, так как не Европа угрожала Франции, а революция вызвала на борьбу Европу, и что не террор спас Францию, так как европейская коалиция потерпела неудачу не вследствие поражения, а вследствие разлада союзников, противоположности их интересов и неспособности вождей.
Уже это краткое указание основной задачи вышеупомянутых историков дает возможность представить себе, как своеобразно должен был сложиться у каждого из них общий взгляд на революцию, и как, вследствие этого, в их сочинениях известные стороны и вопросы должны были выступить на первый план, другие, напротив, стушевываться, некоторые деятели оказаться героями, другие же встретили равнодушие или строгое осуждение. Так, героями Тьера становятся все энергические сподвижники революции — организаторы, умевшие воспользоваться властью, и победоносные полководцы, покрывшие славой возродившуюся Францию; героями Луи Блана — иерофанты, постигнувшие тайну истории, и жрецы нового порядка, не дрогнувшие перед кровью и жертвами; любимцем конституционных историков должен был сделаться тот, кто один постиг истинные условия порядка, примиряющего свободу с монархией, и кто один был способен руководить революцией и остановить ее вовремя — граф Мирабо; героем же исторической поэмы Мишле является какой-то сказочный богатырь, бесплотный и неосязаемый для читателя, но везде присущий и всемощный — французский народ, без вождей, без партий, без аристократических и образованных слоев, вдохновленный как бы единою думой.
Таким образом, сочинения всех названных историков, преимущественно же те, которые написаны до 1848 года, отличаются более или менее одною общею чертой — апологетическим характером изложения. Целью каждого из историков была защита какой-нибудь идеи или партии в истории революции, защита, становившаяся в то же время обвинением противников той идеи или той партии, которые пользовались сочувствием автора; из этой цели, далее, вытекала необходимость объяснить, почему такая-то идея или партия, несмотря на свою правоту, не восторжествовала или пала после кратковременного торжества. Такое отношение историка к своей задаче имело свое основание и известную целесообразность. Оно вызывалось каким-нибудь практическим вопросом, занимавшим современное общество, или желанием историка противодействовать каким-нибудь предрассудкам и ложным взглядам, распространившимся насчет революции или известных деятелей той эпохи.
Между тем французская революция, как и всякое другое историческое событие, требовала прежде всего объективного научного изучения. Различные субъективные воззрения на революцию — хотя, конечно, никогда не утратят вполне своего значения, — должны уступить все более и более места чисто научному рассмотрению, которое одно может привести к единству разноречивые и нередко противоположные мнения, привести, так сказать, к одному знаменателю различные субъективные воззрения, дать известное мерило для оценки их. Научное же рассмотрение французской революции прежде всего обусловливается требованием, чтобы изучалась она как историческое событие, корни которого теряются в глубине предшествовавших веков, ход, характер и цель которого определяются ходом и свойством всей истории французского народа. Только когда будет достаточно выяснена вся связь между революцией и произведшей ее историей, можно будет с некоторою уверенностью определить влияние второстепенных её элементов, которые давали ей известный исторический колорит, и взвесить значение тех более или менее случайных обстоятельств, которые видоизменяли основной ход революции. Только тогда можно будет с достаточною объективностью оценивать идеи, стремления и всю индивидуальную деятельность вождей и жертв революции, можно будет судить о настоящих причинах успеха и гибели той или другой партии, — снимать осуждение, произносить приговоры и взвешивать меру личной ответственности.
Итак, научная постановка историографии французской революции зависит от сознания тесной связи между этим событием и предшествовавшей ему историей. А этому сознанию чрезвычайно мешало укоренившееся глубоко убеждение, что революция была полным разрывом с прошлым, что Франция после 1789 года не представляет ничего общего с Францией при старой монархии. Такое убеждение сложилось не только под впечатлением страшных потрясений и коренных перемен, последовавших во всей Европе вслед за переворотом 1789 года, но было главным образом следствием того энтузиазма, который воодушевлял и самих деятелей французской революции, и их современников. Благодаря этому энтузиазму, охватившему с такою порывистой силой такую обширную массу людей различных классов и национальностей, на французскую революцию стали смотреть, как на источник обновления и новой жизни — не только для Франции, но и для всего человечества. Этот взгляд разделяли с французами многие из политических противников их: вспомним слова, сказанные уже немолодым в то время Гёте прусским офицерам в критический день отступления прусской армии перед революционными войсками у Вальми: «Сегодня начинается новая эра для человечества; вы, господа, можете сказать, что присутствовали при её зарождении».
Чем сильнее было одушевление, вызванное революцией, и чем, с другой стороны, было глубже ожесточение против неё, тем менее как приверженцы, так и враги её были расположены отыскивать её связь с прошедшим, объяснять ее предшествовавшим историческим развитием — одни из опасения умалить заслуги революции, другие — из страха оправдать ее. Но по мере удаления от событий 1789 года, по мере охлаждения революционного энтузиазма и забвения страданий и попранных революцией интересов, должна была постепенно проявиться потребность изучать французскую революцию с исторической точки зрения. Приведение этой потребности к ясному сознанию есть бессмертная заслуга Токвиля. Он доказывал, что французская революция представляет собою не столько разрыв с историческим прошедшим Франции, сколько последовательное его завершение и дальнейшее его развитие в данном искони направлении. Это положение, которое в настоящее время можно принять трюизмом, имело в свое время значение великого научного открытия. Заслуга Токвиля в этом отношении так значительна, что с его сочинения: «Старый порядок и революция», вышедшего в 1856 году, можно начать новый период в историографии французской революции. Впрочем, основная идея этого сочинения, имевшего такое влияние на изучение революции — идея об исторической преемственности французской революции — была высказана Токвилем еще за 20 лет пред тем, правда, в статье, написанной для иностранного журнала и мало известной во Франции. [3] Идея о преемственности французской революции, о неразрывной связи исторического движения в дореволюционной и обновленной Франции, эта идея, без которой невозможно настоящее понимание ни истории Франции, ни значения революции, навсегда будет связана с именем Токвиля; но справедливость требует не упускать из виду, что одновременно с ним и другие ученые направляли свои исследования к разъяснению тех же мыслей. Сознание в необходимости изучать французскую революцию в связи с предшествовавшей историей подготовлялось двумя различными стремлениями исторической науки во Франции. С одной стороны, ученые, изучавшие ранние эпохи французской истории, стали подмечать родственные, аналогические черты между некоторыми событиями этих эпох и великой революцией и стали следить за ростом того политического элемента, который произвел переворот 1789 года. С другой стороны, писатели, изучавшие революцию или общество, непосредственно вышедшее из неё, раскрывали в последнем черты, стремления и идеи, чрезвычайно сходные с состоянием, с стремлениями и понятиями общества в предшествовавший период. В первом отношении особенное внимание следует обратить на исследования Огюстена Тьерри, преимущественно же на его сочинение: «Essai sur l’Histoire de la Formation et du Progrès du Tiers Etat», вышедшее в 1853 году; во втором отношении — на непосредственного предшественника Токвиля — Родо́. Задолго до книги Токвиля, — о «Старом порядке», появилось сочинение Родо́ о том же предмете, в котором в первый раз устройство и положение дореволюционной Франции подверглись серьёзному историческому анализу. [4] Автор этого сочинения приобрел известность как горячий защитник того же принципа децентрализации и местной свободы, который составлял задушевную цель всех стремлений и научных занятий Токвиля. Родо́ не только считал, подобно Токвилю, децентрализацию необходимым условием для установления свободы, но и единственным средством для достижения в будущем величия со стороны Франции, которая, по его мнению, низко пала. Глубокий интерес к вопросу о централизации и её историческому развитию во Франции навел как Токвиля, так и Родо́ на изучение старой монархии и её борьбы с феодальными остатками местной самостоятельности; но если знаменитый автор «Демократии в Америке» при этом держится на строго научной почве, и у него только изредка пробивается элегическое сожаление о погибшем строе, заключавшем в себе среди феодальных развалин зародыши свободных учреждении. Родо́ увлечен тенденцией за пределы научного беспристрастия, и, смешивая рутинную и эгоистическую привязанность к привилегиям, сохранившимся от феодальной раздробленности, с стремлениями к свободе и местному самоуправлению, нередко подает руку писателям-легитимистам, которые проводят мысль, что революция была гибельна для свободы, ибо разрушила учреждения, заключавшие в себе богатые задатки для развития политической и местной свободы.
После выхода сочинения Токвиля о «Старом порядке», интерес к этому предмету еще более усилился и вызвал несколько исследовании в том же направлении. Укажем на сочинение Буато [5] о «Состоянии Франции до 1789 года», вышедшее в 1861 году, автор которого старается, по следам Токвиля, проследить развитие централизации при старом порядке и описать её органы и учреждения, но с большим сочувствием к ней, доказывая, в противоположность своему предшественнику Родо́, несостоятельность исторических учреждений, сохранившихся до XVIII века. Особенное значение имеют, кроме того, в сочинении Буато́ те главы, в которых автор подверг тщательному изучению, на основании статистических данных, состояние духовенства и религиозных корпораций во Франции при Людовиках XV и XVI.
Изучение французского общества перед самой революцией, его политических идеалов и стремлений, его надежд, жалоб и требований, составляет предмет сочинения Шассена о «Духе Революции». [6] Автор его задался мыслью охарактеризовать Францию накануне революции с помощью инструкций и полномочий, данных избирателями депутатам, отправлявшимся в собрание генеральных штатов; но он не ограничился этим, а частыми отступлениями объясняет различные черты французского народа и правительства, отразившиеся потом на ходе самой революции, например, пренебрежение к индивидуальной свободе, влияние мелкой провинциальной интеллигенции — стряпчих, нотариусов и т. п. — на простой народ и прочем. Наконец, мы считаем необходимым упомянуть о специальном сочинении, о «Провинциальных собраниях при Людовике XVI», Леонса де-Лаверня, приобретшего известность своим исследованием о влиянии революции на положение французского земледелия. Сочинение Лаверня, написанное, на основании протоколов этих провинциальных собраний, чрезвычайно поучительно, во-первых, потому, что очень наглядно рисует экономическое состояние провинций и недостатки местной администрации; во-вторых, представляет в новом свете привилегированные классы накануне революции — их либерализм, готовность к жертвам и охоту заниматься местной администрацией. Неудивительно, что автор увлекся привлекательной картиной, им нарисованной, и слишком поддался вере в жизненность и способность к улучшению старого режима.
Под влиянием таких исследований прежнее пренебрежение к историческому способу объяснения, прежние догматические или полемические воззрения на революцию должны были все более и более уступать место более строгому, научному методу. Не в одних только специальных сочинениях стало проявляться желание пролить свет на революцию посредством изучения старой Франции, но самые историки революции все более и более проникались убеждением в необходимости завязать историческую нить, прерванную их предшественниками, и искать точку опоры для своего изложения не в догматических и политических принципах, а в генетическом методе изложения. Если первые историки революции исходят из мнения, что революция порождена злоупотреблениями, промахами и даже преступлениями правительственных лиц эпохи Людовиков XV и XVI, и довольствуются тем, что в виде введения к своему рассказу несколькими резкими штрихами набрасывают картину финансового кризиса, придворной расточительности и аристократических предрассудков, то следующие за ними историки дают все более и более места этому введению и захватывают все глубже и глубже явления, вызвавшие революцию и определившие её ход и характер. Интересно, например, сравнить краткий очерк «нравственного и политического состояния Франции в конце XVIII века», с которого Тьер начинает свое изложение французской революции, похожий скорее на завесу, скрывающую от нетерпеливого зрителя начало захватывающей драмы, чем на историческое введение — с тем тщательным научным исследованием, с помощью которого Зибель подготовляет читателя к пониманию изучаемого им переворота. Не довольствуясь сжатым, но чрезвычайно поучительным описанием экономического состояния, поземельной собственности и администрации накануне революции, Зибель рассматривает ее как звено в величественном историческом процессе, общем всей западной Европе, начиная с эпохи реформации. Такой прием, конечно, совершенно понятен со стороны ученого, вышедшего из школы, воспитанной на философии и привыкшей к универсальному пониманию явлений и в то же время к критическому объективному методу; он вполне естественен со стороны иностранного историка, не принадлежащего ни к одной из партий, спорящих из-за наследия революции; но подобное явление встречаем мы и среди французской историографии, если сопоставим ранних историков революции с позднейшими. Мы замечаем желание справляться с историей, или ссылаться на нее даже у таких писателей, которые — по своей ближайшей цели или по характеру своего ума — склонны к догматическим рассуждениям и отвлеченным приемам. Очень поучительно в этом отношении сочинение Кине́ и сравнение его приемов с приемами Мишле́, с которым у него так много общего в политических убеждениях и в основном взгляде на революцию. Мишле́, как известно, написал средневековую историю Франции, которую во многих отношениях можно назвать классической; он обладает необыкновенною способностью вживаться в эпоху и посредством богатого воображения воспроизводить ее перед читателем во всем её историческом колорите; тем не менее, когда он приступил к эпох революции, он так увлекся ею, что все прошедшее Франции задернулось перед ним как бы густою завесой; если он касается его, то только для того, чтобы показать всю противоположность его принципов жизненному духу новой эры. Он говорит, например, о христианстве, как о религии дореволюционной Франции; революция, по его мнению, исходит из начал, диаметрально-противоположных тому, что он считает сущностью христианства. Совершенно иначе смотрит Кине́ на связь революции и начавшегося с неё исторического периода с дореволюционной эпохой. Конечно, на него в этом отношения имело сильное влияние разочарование революцией 1848 года и трагическая судьба второй республики, завершившаяся в промежуток между сочинениями двух друзей. Кине́ обратился к изучению первой революции не для того, чтобы с юношеским энтузиазмом Мишле́ ее идеализировать, а чтобы «открыть и познать, почему столько и таких безмерных усилий, столько принесенных жертв, такая чудовищная трата людей оставили после себя такие еще несовершенные и уродливые результаты»? Его ответ заключается в том, что главная вина на стороне старой Франции. Он вооружается против писателей, которые не принимали в расчет всех преград, поставленных этой дореволюционной Францией на пути развития новой, и которые поэтому видели «по сю сторону 1789 года одну только ложь, а по ту — одну только правду». Но каково бы ни было его побуждение, Кине́ не хочет допустить, чтобы 1789 год представлялся какими-то непроходимыми «Пиренеями». Он вооружается против приема делать из революции «изолированный пункт во времени без отношения к прошедшему — эпоху, колеблющуюся в пустом пространстве, не прикрепленную к предшествовавшим эпохам», а потом привлекать к ответственности «человеческий дух», как будто он виновен в этом ненормальном зрелище. «Революция, говорит Кине́, как всякое другое событие, в связи с тем, что ей предшествовало; она находится под бременем прошлого. Часто она его воспроизводит, даже когда борется с ним. Не видеть этой связи, — значит, отрицать самую душу истории».
Влияние исторического метода еще более отразилось на сочинении знаменитого бельгийского историка-философа Лорана. [7] Этот ученый, проследивший с изумительной начитанностью и неизменной бодростью мысли весь необъятный процесс развития человечества от первых зачатков гражданственности в Индии и Египте до наших дней, не мог не воспользоваться уроками истории, когда приступил к изложению революции. Притом его принадлежность к бельгийскому народу, его, так сказать, международное положение должно было его предрасполагать к более беспристрастному, объективному воззрению и избавить от некоторых патриотических увлечений французских историков. Так например, останавливаясь над вопросом, почему революция не имела результатом установление свободы, он указывает на то, что стремление к равенству, к народовластью в смысле господства масс, получило преобладание над стремлением к обеспечению индивидуальной свободы, которое в начале революции выразилось в декларации прав человека, и объясняет это тем, что латинский или гало-римский элемент французского народа, пропитанный преданием демократической империи Рима, взял перевес над элементом индивидуальной свободы, внесенным германскими завоевателями. Таким образом, Лоран, разбирая элементы обоготворяемой им революции, относит лучший и плодотворнейший из этих элементов на долю влияния германской расы, которое совершенно отрицается или порицается современными французскими историками, конечно, не вследствие научных мотивов. Лорана в этом случае нельзя осуждать за слишком резкое разграничение характеров расы, он не только имел за себя авторитет Монтескьё и других историков XVIII столетия, но демократических историков XIХ века, которые, прославляя уравнивавшую деятельность королевской власти и её союз с демократией, видели в их борьбе с феодальной аристократией противодействие туземного гальского элемента чуждому — германскому, и готовы были повторить возгласы Сиеза, предлагавшего прогнать варваров назад в их зарейнские дебри.
Но, с другой стороны, доктрина, что прогрессивное развитие человечества ведет к превращению христианства в теизм и гуманитарную религию будущего, — доктрина, которой придерживается Лоран и которая находит обильную пищу в местных бельгийских условиях, — увлекла его до тенденциозной разработки французской революции. Бельгия была обязана этой революции своим обновлением, но, вследствие большей прочности её средневековых учреждений, бурный переворот расколол, так сказать, эту страну и её население на две равные враждебные части, — либеральную, которая любит французскую революцию, как свою колыбель, — и клерикальную, которая ненавидит ее главным образом как манифестацию анти-религиозного духа. Так как все направление правительственной деятельности в стране зависит от хода этой борьбы, то понятно, что либералы Бельгии подчиняют торжеству над клерикализмом все прочие интересы. И для Лорана история революции служит главным образом оружием против опасного врага. Защищая революцию или критикуя ее, он постоянно имеет в виду зоркое око бельгийских клерикалов, которые более, чем где-либо, овладели печатью и воспитанием молодежи. При таком положении дела нет места для объективной точки зрения.
В одном только Лоран соглашается со своими противниками, а именно в том, что революция была выражением философского антихристианского духа, и он возвращается к воззрениям французских писателей XVIII века, которые видели в борьбе с церковью свою главную задачу.
Вследствие этого у Лорана нет достаточно досуга и охоты, чтобы обращаться к истории, предшествующей революционной эпох, и даже там, где он прибегает к историческим объяснениям, они не всегда удовлетворительны. Так, например, хотя он и резко протестует против преувеличения со стороны историков влияния климата и расы на духовное развитие народов, [8] — однако он сам сводит противоположность деспотического народовластия и индивидуальной свободы к различию духа гало-римской и германской рас, не обращая достаточного внимания на общий ход французской истории, враждебный развитию индивидуальной свободы.
Лоран отчасти прав, объясняя ненависть к французскому дворянству во время революции и необузданность демократической реакции характером этого дворянства, но он не указывает, под влиянием каких исторических условий образовалась французская аристократия, и почему у дворян «властолюбие и презрение к низшим сословиям были гораздо сильнее, чем любовь к свободе».
Отлично выясняет Лоран характер королевской власти во Франции и предостерегает читателей от односторонности уважаемого им Огюстена Тьерри, «напрасно прославлявшего старинных королей, как защитников равенства, как представителей народа, для него только трудившихся, тогда как единственной целью их была власть. В другом месте своего сочинения Лоран выражает сожаление, что короли не последовали советам философов. «Если бы королевская власть, — говорит Лоран, — послушалась этих врачей и пророков, она предотвратила бы революцию, отменивши злоупотребления старого порядка», как будто сущность того исторического переворота, который обнаружился в революции, заключался только в отмене злоупотреблений, а не в перемещении власти. Несмотря, однако, на некоторые недомолвки и отступления от исторического метода в угоду доктрине, сочинение Лорана представляет редкое соединение философского и исторического объяснения французской революции и может служить убедительным
2. Тэн и революция 1789 года
Из нашего краткого обзора историографии французской революции читатель может убедиться, что в ней преобладала идеализация революции вообще, или известных её деятелей. Эта идеализация революции проистекала из политических страстей и служила орудием политических партий. Под её влиянием молодые французы уже в школе становились поклонниками революции 1789 года. Молодой Тэн в этом отношении представляет собою замечательное и редкое исключение. Даже в вихре революции 1848 года Тэн, несмотря на свою молодость, сохранил полное самообладание. — «Когда в 1849 года, бывши двадцати одного года, я очутился избирателем, — пишет Тэн, — я был в крайнем затруднении: мне приходилось выбирать 15 или 20 депутатов, и, сверх того, по французскому обычаю, я должен был не только избирать лица, но и выбирать между политическими системами. Мне предлагали сделаться роялистом или республиканцем, демократом или консерватором, социалистом или бонапартистом; я не принадлежал ни к какой партии, я просто не имел никакого взгляда и иногда я завидовал всем этим убежденным людям».
Не равнодушие высказалось в этом признании Тэна. Его осторожность обусловливалась его аналитическим умом, его потребностью отчетливого мышления и в особенности его жаждой научного знания. Предметом его научной любознательности была в первое время область литературного и художественного творчества человека. Его не удовлетворял господствовавший до него способ литературной и художественной критики. Он видел в проявлениях этой критики личный произвол и господство субъективных вкусов. Он был убежден, что как все в природе, так и творчество человека в слове и в искусстве совершается по определенным законам, и ему хотелось выяснить эти законы.
Целый ряд блестящих трудов посвятил он этой задаче и при этом убедился, что в основании всех подобных исследований должна быть положена психология, и именно опытная психология. Он принялся ее изучать и в 1870 году выпустил свое сочинение «Об уме» — (l’Intelligence). Окончивши этот труд, он отправился в Германию для её изучения. Он был особенным поклонником Гёте и Гегеля. Но возгоревшаяся летом франко-прусская воина заставила его вернуться и о продолжении начатого им труда нечего было и думать. Катастрофа, разразившаяся над Францией, глубоко потрясла Тэна. Когда Парижу стала грозить опасность, Тэн выразил желание вступить в национальную гвардию, но военные врачи не приняли его по состоянию его здоровья. Он нашел возможность служить своему отечеству другим способом — пером публициста. Возникший по заключении мира вопрос о государственной организации Франции побудил Тэна заняться внутренней политикой, конечно — научным образом. Разыгравшаяся на глазах Тэна парижская коммуна и опасность, которой она подвергала Францию, окончательно сосредоточили все его мысли и заботы на изучении недугов современной ему Франции и выяснении причин этих недугов. Так зародилась у него мысль о его знаменитом труде — «Les Origines de la France contemporaine» — и он сделался историком. «В 1871 году, — писал он несколько лет спустя в одном частном письме, — чтобы уплатить мой долг (отечеству) и принести посильную пользу, я стал вглядываться ближе в нашу современную историю и посещать архивы». Его тревожил исход происходившей на его глазах борьбы партий и обнаружившееся в ней вредное влияние всеобщей подачи голосов: «Её одной уже достаточно, чтобы разрушить Францию». Но не эта только наклонность к «эгалитарной» демократии пугала Тэна. «Самая суть ума и характера французов» в его глазах представляла тревожные симптомы. «Они не склонны к вниманию, к пристальному изучению. Они хотят, чтобы сейчас им все было ясно, хотя бы с риском впасть в ошибку. Они любят витать высоко, хотя бы в пустом пространстве. Они не обладают достаточной дозой памяти и воображения, чтоб видеть детали, обстоятельства, громадную сложность живой действительности. Они словолюбивы и склонны к риторике. К тому же они тщеславны, и им больно признаться в своем неведении или некомпетентности. Когда им что-нибудь приблизительно знакомо, они воображают, что им, сверх того, известно и все остальное».
Эти недостатки национального характера поддерживались ложным школьным воспитанием. Молодые люди, говорит Тэн, произносящие в классе риторики речи, и в классе философии, пишущие «рассуждения, усваивают привычку выводить все а priori. Юридический факультет продолжает развивать этот дедуктивный метод. Никогда у нас право не выводится из реальной истории или из нравов данного народа. Эта наклонность к дедуктивному методу популяризуется журнализмом. Нет ничего легче, как написать газетную статью, исходя из отвлеченного принципа и развивая его последствия. Даже невозможно иначе писать статьи. Всякая статья должна быть утвердительна и приводить к категоричному выводу. Только тогда ее читают.
«А к этому присоединяются недостатки местных учреждении. Вследствие ненормальной организации муниципального порядка (городских и земских учреждений), индивидуум у нас лишен того первоначального политического воспитания, которое ему предоставляет Швейцария, Англия, Бельгия. Наша политическая и административная система дает ему все права и отнимает у него всякую возможность применять их. Оттого у него громадные претензии и полная политическая неспособность. Ученик Итонского колледжа, дровосек в Иллинойсе больше смыслят в политике, чем большинство наших депутатов». [9]
Чем живее Тэн ощущал недуги современной ему Франции, тем настойчивее становилось его желание исследовать в прошлом их причины. Он надеялся, что его исследование будет иметь значение консультации при постели больного. Чтобы лечение имело успех, нужно, чтоб больной сознавал свой недуг. Это сознание отнимет у него охоту искать новых потрясений.
Тэн верил в победоносную силу науки и знания, верил, что строго научный метод превратит и политику в точную науку. Он ставил себе целью внести посильный вклад в тот ряд исследований, которые «по прошествии полувека позволят благонамеренным людям пойти далее чувствительных впечатлений или эгоистических вожделений в общественной жизни отечества».
Полный надежд на торжество точной науки в деле устроения человеческой жизни, Тэн восклицал: «Законный владыка мира и будущего не то, что в 1789 году называли «Разумом» (la Raison), а то, что в 1878 году разумеют под «Наукою».
Тэн мог тем более рассчитывать на плодотворность научного исследования прошлого Франции, что совершенно разочаровался в достоверности наиболее популярных историков революции — Тьера и Мишле́. О первом он писал графу Мартелю, приславшему ему свое сочинение о Тьере: [10] «Вы обнаружили его способ работать без точных копий документов, без собственноручных и определенных заметок, лишь по памяти или на основании отзыва своего секретаря, с потребностью быстро достигнуть общего эффекта, составить повествование по вкусу массы читателей, с привычкой не взвешивать слов, довольствоваться приблизительной верностью выражений, с очень благоразумной предосторожностью не вставлять в свой текст буквальных цитат из источников, с мещанским пристрастием к словам возвышенным и неопределенным, к ложному приличию, с бесцеремонностью и беззастенчивостью импровизатора, всегда готового и всегда банального».
В другой раз Тэн писал: «Я справлялся у людей, которые знакомы с способом работы Тьера; он, по-видимому, сам читал мало, заставлял читать других и часто довольствовался их извлечением (résumé); его главной заботою было создать в голове повествование беглое, легкое, приятное; успевши в этом, он вечером передавал его Минье или Бартелеми Сент-Илеру, затем диктовал его ораторским пошибом, как доклад с трибуны, или рассказ в салоне, сокращая, закругляя, подчиняя точную истину потребности приятного и ясного рассказа. Необходимо было бы проверить его анекдоты».
Тэн высоко ставил Мишле́, как писателя, и посвятил ему очень сочувственную статью. Но он был очень невысокого мнения о его истории революции, познакомившись с ней ближе: «Я имел случай убедиться, проверив их по документам, что некоторые из лучших страниц Мишле́ — чистая фантазия, восхитительные узоры, разведенные на исторической канве скудной и сухой — например, сцена, когда толпа с торжеством вносит Марата в Конвент, после его оправдания судом…» Вся история Мишле, наконец, стала представляться Тэну плодом воображения (une oeuvre d’imagination).
А по мере того, как Тэн углублялся в первоисточники по истории революции, он разочаровывался не только в её историках, но и в ней самой: «Французская революция, писал он, наблюдаемая вблизи и на основании подлинных источников, совершенно различна от той, которую мы себе воображаем».
Но его собственному признанию, когда он начал заниматься «Старым порядком» и революцией, он разделял господствующее мнение и лишь факты, подлинные исторические тексты, подробности, изученные по источникам, побудили его изменить это мнение.
Было время, когда он с патриотической гордостью даже вступался за революцию. Сравнивая английскую революцию с французской, он отдавал преимущество последней, потому что она «преобразила Европу», тогда как «ваша», т.е. английская, «принесла пользу только вам». Теперь «изучение документов» сделало его идолоборцем».
Тэн не без сожаления оторвался от своих прежних воззрений. В политике, говорил он, мы живем в кругу идей совершенно установленных; и столько же опасно, как и неприятно бороться против идей и мнений, в которых вся публика воспитана; я сам разделял эти мнения в начале моих изысканий и должен был расстаться с ними не без усилий и не без огорчений. Но факты, с которыми познакомился Тэн, были слишком красноречивы и убедительны. «Для меня теперь ясно, писал потом Тэн, что с 1828 года и появления книги Тьера мы живем в добровольной иллюзии насчет революционной эпохи. Драма, поэзия, философия, более или менее гуманитарная, возвеличили всех этих деятелей революции; Робеспьер например, был лишь пешкой, — плохой литератор, говорун из провинциальной академии».
Иллюзия, которая рассеялась для Тэна, когда он вгляделся в историческую действительность, относилась не только к деятелям революции, но и к самой революции. Она представлялась ему теперь ошибкой. Ошибкой был не самый переворот, положивший конец старому порядку, но ошибочен был способ, посредством которого переворот был произведен. Возражая одному из своих критиков, Тэн пишет:
«Вы оправдываете революцию, указывая, что она укоренилась во Франции и распространилась по Европе. Надо сговориться относительно смысла слова революция. Если вы разумеете под этим уничтожение старого порядка (произвольной королевской власти и феодализма) — вы совершенно правы: не только во Франции, но в большей части Германии и в Испании старый механизм пришел в негодность и его оставалось только выбросить. Но эту операцию можно было произвести двумя способами: по английскому и немецкому способу — по принципам Локка и Штейна, или по способу французскому — по принципам Руссо. Современная история доказывает преимущество первого метода. Во Франции, где возобладал второй способ, пришлось не только претерпеть массовые убийства (massacres) революции и кровопролитие империи, но роковые последствия принципов Руссо уцелели и продолжают развиваться. Под именем народовластия у нас происходили мятежи, революции, государственные перевороты, и нам, вероятно, предстоят еще такие же. Под именем народовластия у нас установилась чрезмерная централизация, вмешательство государства в частную жизнь, всеобщая бюрократия со всеми её последствиями. Централизация и всеобщая подача голосов — эти две черты современной Франции обусловливают собою несовершенство её организации — одновременно апоплексической и анемической».
Итак, по признанию самого Тэна, разногласие между ним и его противниками сводилось, по существу, к различию во взглядах на так называемые принципы 1789 года. «В моих глазах, — пишет он, — это принципы „общественного договора“, поэтому они ложны и вредны. Нет ничего прекраснее формулы „свобода и равенство“ или, как выражается Мишле, сливая их в одном слове, — справедливости. Сердце всякого порядочного и неглупого человека говорит за них. Но сами по себе они так неопределенны (vagues), что их нельзя принять, не зная предварительно смысла, который им придают. И вот, примененные к социальной организации, эти формулы привели в 1789 году к узкому, грубому и пагубному представлению о государстве».
Еще внушительнее отпор, который Тэн дает поклонникам принципов 1789 года в письме к Леруа-Больё. «Если бы я имел удовольствие встретиться с вами (что было бы для меня большим удовольствием), я попытался бы получить от вас определение пресловутых принципов 1789 года, столь неопределенных. Как все отвлеченнности этого рода, они представляют тот смысл, который в них вложишь; но если допытываться смысла, который им придавали те, кто тогда декретировал их, то окажется, что они все сводятся к догмату народовластия, понятому в смысле Руссо, т.е. к доктрине самой анархической и в то же время самой деспотической, заключающей в себе, с одной стороны, право восстания индивидуума против государства, даже наилучшим образом управляемого и самого законного, с другой же стороны — право вмешательства государства в самую сокровенную частную жизнь. Это полная противоположность столь мудрым идеям Локка. Мы до мозга, костей проникнуты этим старым ядом; нам всего недостает — как уважения к государству, так и уважения к индивидууму, мы по очереди, или даже одновременно, социалисты и революционеры; вспомните страшное слово Малле дю-Пана: «свобода — вещь навсегда непонятная французам!»
Называя два пути, представлявшиеся Франции в 1789 году «одинаково открытыми», Тэн оговаривается, что это нужно понимать лишь отвлеченно: на самом же деле, принимая во внимание обстоятельства, страсти и идеи, неурожай, нищету крестьянина, свойственную буржуазии и французам зависть, господство над умами теории «Общественного договора», — приходится признать, что законодательство Учредительного Собрания и окончательный крах были неизбежны. Но Тэн ставит себе целью показать, что революционные страсти и идеи были зловредны и ложны, и что с большим здравым смыслом и большею честностью можно было достигнуть лучших результатов.
«Революция 1789 года, писал Тэн, потрясла организм Франции; эта революция была первым применением политико-этических идей к человеческому общежитию; но политико-экономическая наука была в 1789 г. едва намечена, а её метод был плох: она руководилась лишь априорным суждением».
Априорный метод, которым руководилась революция, загубил Францию. «Люди того времени построили свое понятие о государстве с помощью этого априорного метода. Следствием этого была теория, по существу, анархическая, деспотическая и социалистическая. Вот в чем центральный двигатель событий; вот где заразный зародыш, введенный в кровь общества страдающего и глубоко болезненного, вызвавший горячку, бред и революционные судороги. Если это верно, то все осуждения, произнесенные под влиянием воображения, чувствительности и симпатии, над людьми 1789–90 годов, над федерацией, над делом Учредительного Собрания, должны быть изменены; иллюзии этих людей, их энтузиазм, их взаимные объятия могут внушить лишь чувство жалости». Тэн сравнивает революционных деятелей со слепцом, который, засунув руку в речной ил, вытащил оттуда змею, думая, что это рыба, и торжественно показывает ее. В 1789 и даже в 1790 г. много людей порядочных и даже образованных, укушенные змеей, все еще отказывались верить, что мнимая рыба была змеей. И все это еще и теперь продолжается. Одним из печальных наследий революции и её априорного метода Тэн считает всеобщую подачу голосов, которой одной было бы достаточно, чтобы разрушить Францию. [11] «За исключением случаев, внушительно действующих на воображение, как война 1870 года и уличная битва в июне 1848 года, эгалитарно-демократический инстинкт, недоброжелательство к богатым людям и к аристократам всегда будут влиять на всеобщую подачу голосов в радикальном направлении. Вот почему я так сожалею о глупостях, наделанных в 1789 году».
Чтобы понять это настроение Тэна, нужно вспомнить о времени, которое он переживал. Это было непосредственно после Коммуны 1871 года, вожди которой своими неистовствами и своими преступлениями — наконец своею неспособностью, так напоминали Тэну террористов 1793–94 годов. [12] Это было время, когда один из вождей торжествующей партии — недюжинный человек — Ж. Ферри, восклицал в палате: «Революция — наше Евангелие». Это значит, замечает Тэн по этому случаю: «запрет ее осуждать», ибо всякое её осуждение рассматривается, как оскорбление веры партии большинства!
Но не только вожди господствующей партии находятся под гипнозом революции. Беда в том, что это гипноз всеобщий. «Я совершенно согласен с вами, пишет Тэн редактору «Социальной науки» — «мы все более или менее революционеры. Те две тенденции, которые Руссо раздувал, революция развивала, а наши историки оправдывали, — а именно тенденция анархическая и тенденция деспотическая, проходят через всю нашу историю последних 90 лет. Индивидуум относится без уважения к правительству, а правительство — к индивидууму. Отсюда много тяжелых последствий. Мы их далеко не исчерпали и грядущее будет тяжко для наших детей».
Вначале главным предметом критики Тэна является Учредительное Собрание. Его он преимущественно обвиняет в применении отвлеченных принципов к переустройству Франции, которое оказалось столь нецелесообразным. «Учредительное Собрание, говорит он, принесло наиболее вреда (la plus funeste). Законодательное собрание и Конвент только продолжали его дело, применяли его законы. Его система, заимствованная у Руссо, заключалась в том, чтобы превратить Францию в груду песчинок, обособленных и равных между собой. Чтобы их сдержать и пользоваться их массой, консульство сжало их механическим давлением. Результат всего этого мы видим и теперь пред собою». Не обинуясь, Тэн видит в управлении Учредительного Собрания «царство непредусмотрительности, страха, фразы и ничтожества». В силу системы, придуманной Учредительным Собранием, в стране происходил подбор беснующихся и запуганных. Новые местные власти — группы фанатиков и хищников, насильно захвативших в каждом местечке, в каждом городе и в Париже власть, и пользовавшихся ею в противность закону, или по милости закона. Итог деятельности Учредительного Собрания Тэн формулирует словами: «Организованная анархия, хроническая и прогрессирующая». Оглядываясь на историю революции и оценивая её влияние на судьбу Франции, Тэн говорит: «Государственный строй Франции представляет собою в Европе аномалию; преобразование этого строя, успешно совершенное соседними нациями, было для Франции неудачно. Оно имело своим последствием вылущение позвоночного столба и такое повреждение, от которого Франция может излечиться лишь очень медленно и с бесконечными предосторожностями».
Но при дальнейшей разработке истории революции на первый план у Тэна становятся якобинцы — как психологический тип, и как партия. «Я держусь, пишет Тэн, принципа Бурже, что писатель должен быть психологом». И Александру Дюма он пишет: «Мы пытаемся в настоящее время применить к истории нечто подобное тому, что вы делаете для сцены театра — я разумею прикладную психологию». С этой точки зрения в особенности Тэна и занимали якобинцы. «В настоящий момент, писал он в том же письме, если я буду в состоянии удовлетворительно воссоздать психическое состояние якобинца, мое дело будет сделано, но это дьявольская работа». Якобинцы представляли богатую пищу его психологическому интересу. Психология, по его замечанию, должна играть во всех духовных науках такую же роль, как механика в науках физических. «Я задумываюсь, писал он, над психологией якобинца. В силу какого механизма идей и чувств люди, предназначенные быть провинциальными адвокатами, чиновниками на 3 тысячи франков оклада, одним словом, мирными буржуа и покорными чиновниками, стали убежденными террористами? У меня под руками драгоценный биографический словарь, составленный в 1805 году. В нем можно найти справку об общественном положении всех переживших революцию членов Конвента: они служат в акцизе, состоят гражданскими или уголовными судьями, таможенными инспекторами и т.д.» Тэн находит, что «психоз хищников гораздо легче понять. Но люди, как Субрани, Ромм, Гужон, — даже как Леба и Грегуар, самые изумительные образчики сознательного бреда и рассудочной мании. Я еще не выяснил их себе».
Все лето 1878 года, проведенное в Савойе на берегах любимого Тэном озера, он посвятил этой работе. «Вы знаете мое озеро, — пишет он, — я теперь там со своими якобинцами. Я предпочитаю иметь дело с мертвыми, чем с живыми якобинцами, и я думаю только об анатомировании их, чтобы представить вам точный препарат».
Но эта работа его по временам одолевала, и он с грустью вспоминал о своих прежних занятиях. «Прежде, занимаясь историей литературы, я жил с глазу на глаз с великими людьми, теперь я осужден провести еще два года в больнице для умалишенных».
Это относилось к якобинцам; но и их соперники и жертвы, жирондисты, не утешали Тэна. «Я вас уверяю, — писал он Гастону Парису, — что жирондисты Законодательного собрания не красивы, если их видеть вблизи; они позволяли себе до 10 августа делать все то, что после 10 августа проделали с ними (якобинцы)».
Этой характеристикой людей, господствовавших в народных собраниях Франции, обусловливалась и оценка самих собраний. Законодательное собрание для Тэна ничто иное, как политический клуб, смененный другим, террористическим клубом, Конвентом, который в свою очередь находился под господством еще более террористического клуба — парижской коммуны.
Для Тэна давно миновало время, когда он с юношеским пылом настаивал на применении метода физических наук к литературной критик и истории, когда он восклицал, что добродетель и порок такие же естественные продукты, как купорос и сахар, и требовал от критика и историка такого же безразличного отношения к своему предмету, какое бывает у физиолога и анатома.
Юношеский «позитивизм» его пошатнулся впервые в области художественного творчества и классификации художественных произведений. Там впервые Тэн допустил при оценке их моральный элемент. Он признал преимущество благотворного сюжета и типа над злотворным (malfaisant). Тем более он имел право в истории обличать политический тип, умственно узкий, нравственно низкий и социально вредный.
Тэн предполагал исполнить свою задачу — объяснить «возникновение современной Франции» — тремя этапами, а именно, посвятить один том «старому порядку», вызвавшему революцию, второй том — самой революции, а в третьем томе выяснить влияние революции на послереволюционную, современную Францию. Первый том и вышел в 1875 году под заглавием «l’Ancien Régime». Но изображение революции не поддавалось расчетам Тэна. В начале осени 1876 года он писал: «Мне приходится изложить и оценить дело Учредительного собрания, а это требует изысканий и размышлений о самых разнообразных специальных вопросах, о сущности государства, о конституциях, об аристократии, собственности, о корпорациях, о католической церкви, о централизации, и вообще о гражданском и государственном праве. Мне удалось, если я не ошибаюсь, выяснить принципы. Но я так далек от принятых взглядов, в особенности от тех, которые в ходу во Франции, что я должен напрягать все свое внимание; нужно быть ясным и приводить доказательства, а работа громадная. Труд к тому же разрастается в моих руках: я очень опасаюсь, что у меня выйдут два тома о революции, и мне понадобится для окончания по крайней мере еще год». Но и этот расчет оказался ошибочен, хотя, чтобы выиграть время, Тэн отказался от чтения своего курса в художественной академии и посвящал всю зиму работе в архиве. Но как он писал своему бывшему учителю: «В вопросе столь спорном и с выводами столь противоположными господствующему мнению надо было приводит доказательства». И в результате характеристика революции потребовала от Тэна трех томов, вышедших под общим заглавием: «la Révolution». Первый из них вышел в 1878 г. и был посвящен эпох Учредительного собрания — 1789 до сентября 1791 — и так как знамением этого времени была анархия снизу и безвластие сверху, то Тэн озаглавил его «l’Anarchie». На этой анархической почве свободно разыгрался произвол и деспотизм якобинцев. Но так как якобинцы не сразу овладели властью, и им пришлось вести борьбу с жирондистами, то Тэн озаглавил второй том революции: «la Conquête jacobine» — завоевание якобинцами, завершившееся 2 июня 1793 г.; а третий том — «le Gouvernement Révolutionnaire» — правительством террора. Эти два тома вышли в 1881 и в 1885 годах.
Глава вторая. Старый порядок
Познакомивши читателя с помощью переписки Тэна, ныне изданной, с его взглядом на предмет, которому он посвятил всю вторую половину своей трудовой жизни (1871–93), мы обратимся к обзору первого тома его «Возникновения современной Франции». Французские писатели всегда отличались перед другими потребностью единства плана и симметрии частей; но в редком французском сочинении эти черты выступают так наглядно, как в рассматриваемом нами томе. Он состоит из пяти книг: первые две посвящены характеристике общества при старом порядке, третья и четвертая — философии и литературе, пятая книга — той части французской нации, которая стояла вне образованного общества. Кстати заметим, что даже число страниц в каждой из пяти книг почти одинаково.
Отличительную черту французского общественного строя в XVIII веке составляет резкое разделение нации на два слоя: привилегированные классы и массу народа. К первым принадлежали все те лица и сословия, которые успели сохранить более или менее остатков государственных функций и правительственных прав, превращенных феодализмом в частную собственность. Этим привилегированным слоем и занимается Тэн в первых двух книгах своего сочинения, распределяя согласно со своими методическими приемами свои наблюдения под две рубрики: «общественный строй» и «нравы и характеры». Первая книга, написанная, как и все остальные, живо и метко, представляет наименее оригинального и спорного. Автор имел перед собою богатую, разработанную его предшественниками фактическую почву. Любопытен только литературный прием, с помощью которого Тэн хотел придать своему предмету новый интерес и пикантность.
Тэн посвящает несколько страниц происхождению привилегий духовенства, дворянства и короля. Причину этих привилегий он ищет не в историческом факте завоевания, не в общих основах государственной и общественной жизни, а в услугах, оказанных некогда обществу привилегированными классами. Он вводит читателя в эпоху разрушения Римской империи и вторжения варваров — и показывает, как распространение религии и устройство церкви было делом духовенства. В эпоху распадения всех общественных связей духовенство создает крепкую организацию, управляемую законами; оно идет на встречу варварам и подчиняет их своему нравственному влиянию, устраивает убежища для покоренных и угнетенных, спасает остатки цивилизации, в своих монастырях основывает рассадники новой культуры; в эпоху владычества грубой силы оно создает идеальный мир, — своими легендами, соборами и литургиями делает осязательным царство небесное, дает людям силу и охоту жить — или, по крайней мере, со смирением переносить тяжкую жизнь, дает трогательную или поэтическую мечту в замену счастья.
Другим способом, в эпоху распадения государства, основанного варварами, и вторжения норманнов, которые шайками грабили и выжигали страну, — спасителем и благодетелем страны становится воин, умеющий сражаться и защищать других. В эпоху непрерывных войн только один общественный строй хорош — это феодальный строй, где вождь, окруженный дружиной, защищает своих вассалов; каждый из этих вождей твердой ногой внедряется в местности, где он поселился, — это его замок, его владение, его графство. С течением времени в этой воинственной среде вырабатывается новый идеальный тип: рядом со святым является рыцарь, и этот новый идеал служит также могущественным цементом для сплочения людей в прочное общество. Среди этого же феодального мира вырастает и власть короля; он расширяет свои феодальные владения в течение восьми веков с помощью завоеваний, политических браков, наследства; камень за камнем создает он плотное государство в 26 миллионов жителей, самое могущественное в Европе. Во все это время он являлся главой общественной защиты, освободителем страны от иноземцев: от папы в XIV веке, от англичан в XV, от испанцев в XVI. Внутри государства он верховный судья — grand justicier; с шлемом на голове — он постоянно в походе: разрушает замки феодальных разбойников, унимает частные войны, защищает слабых — он водворяет порядок и мир. Все полезное возникает по его приказанию или под его покровительством: дороги, гавани, каналы, университет, школы, богадельни, промышленные и торговые заведения.
Такие услуги вызывают соответственное награждение. Оно заключается, с одной стороны, в громадном количестве поземельных владений, которые скопились в руках привилегированных классов, — с другой стороны, в различных почетных или выгодных правах. Но дело в том, что эти привилегированные классы, пользуясь выгодным положением, созданным их заслугами, постепенно перестают оказывать обществу дальнейшие услуги и их преимущества обращаются во вред обществу. Около этой мысли Тэн искусно группирует все, что нам известно о ненормальном положении прелатуры, дворянства и династии в старой Франции, о злоупотреблениях и гибельных для государственной жизни последствиях, какие вытекали из привилегий. Тэн не относится враждебно ни к королевской власти, ни к аристократии; он не отрицает их значения в истории французского государства. Такие же реальные причины, какие вызвали их появление, оправдывают, по его мнению, их дальнейшее существование: «Можно удивляться, — говорит он, — тому, что один человек из своего кабинета распоряжается имуществом и жизнью 26 миллионов человек; но это было необходимо для того, чтобы народ оставался независимым. Предоставленное самому себе, человеческое стадо немедленно приходит в замешательство, пока, наконец, как во времена варваров, не явится среди беспорядков и криков военный вождь, который большею частью оказывается палачом». — Таким же способом доказывается необходимость аристократии: «Когда масса не развита, полезно, чтобы вожди были заранее намечены наследственной привычкой за ними следовать и особым воспитанием, которое подготовляло бы их к их призванию. В таком случае общество не имеет надобности отыскивать их. Они налицо, в каждом округе их знают, — они заранее всеми признаны; их легко отличить по имени, по сану, по богатству, по их образу жизни, и все вперед готовы встретить их авторитет с почтением».
И так, беда не в династии и аристократии, а в том, что, несмотря на изменение феодального строя, они сохранили свой прежний характер, и не приняли на себя новой соответствующей роли. Король из военного вождя феодальной эпохи должен был превратиться в правителя. Аристократ также может сохранить свои привилегии, не утрачивая популярности, — если из наследственного военного вождя в своем округе он становится «постоянным и благодетельным владельцем, добровольным начинателем всех полезных предприятий, обязательным попечителем бедных, безвозмездным администратором и судьей округа, его представителем (без оклада) перед королем, т.е. — вождем и покровителем как прежде, но посредством нового рода патроната, приспособленного к новым обстоятельствам. Местное управление и представительство в центре — вот два главных его назначения».
В других феодальных странах аристократия соответствовала этому своему назначению; во Франции — нет, она не оказывает обществу ни местных, ни общих услуг.
Все сеньоры распадались на два класса: одни не жили в своих владениях, находясь при дворе или в Париже; это самые богатые и знатные; всегда отсутствуя, они не в состоянии были исполнить своей местной роли. Другие, средние и мелкие дворяне, правда, жили в своих поместьях, они в непосредственных сношениях со своими крестьянами и фермерами; они не высокомерны, не угнетают их; напротив, особенно в эпоху голода и бедствий, расточают им свои доходы. Но чиновник, интендант оттеснил сеньора от его прежних подданных. «Сельская администрация не касается его, он даже не имеет над ней надзора: раскладка податей и распределение набора, ремонт церкви, созвание и председательство в приходском собрании, проведение дорог, устройство благотворительных рабочих домов — все это дело интенданта или чиновников общины, которых интендант назначает и которыми он руководит».
При таких условиях самолюбие сеньора, которому закрыт всякий выход из такого положения, становится мелочным; он ищет не влияния, а отличий: «il songe à primer, non à gouverner». [13] Притом он сам в полной зависимости от интенданта, связан в своих движениях; 20 человек дворян не могли собраться без разрешения короля. Большинство из них бедны, они не в состоянии отказаться от своих феодальных прав, которыми они живут, и от этого превращаются, по отношению к крестьянам, в простых кредиторов.
Не оказывая местных услуг, аристократия была бесполезна и в центре. Толпясь около короля, прелаты и сеньоры не представляют собою интересов страны, а пользуются своим влиянием только для личных выгод. Духовенство еще сохранило, как сословие, некоторые политические права; оно периодически съезжалось на собрания, которые имели право делать представления королю. Правительство входило с ними в сношения по поводу доли участия духовенства в государственной повинности, которую оно несло под именем добровольного дара.
Но на что употребляет духовенство свое корпоративное влияние? На поддержание феодальных привилегий, закрытие школ и преследование протестантов. Еще в 1780 году собрание духовенства объявляет, что алтарь и престол были бы одинаково в опасности, если бы еретикам было дозволено сорвать свои оковы.
Светской же аристократии, лишенной всякого политического органа, остается употреблять для своих интересов только личное влияние и придворную интригу. Благодаря этому личному влиянию, все доходные места в церкви заняты дворянами; им предоставлены, например, все епископские места, за исключением 3-х или 4-х (petits évêchés de laquais). То же самое в армии: чтобы получить чин капитана, нужно быть дворянином в 4-м поколении. В светской администрации 44 генерал-губернаторства, 66 вице-губернаторств, 407 губернаторств и множество других синекур, особенно при дворе, предоставлены дворянам. К этому нужно присоединить громадную сумму, расточаемую принцам крови, герцогам и графам, придворным дамам, в виде пенсий, наград и приданого их дочерям. «Версаль! — восклицает министр Людовика XV, д’Аржансон, — в этом слове заключается все зло! Версаль сделался сенатом нации; последний лакей в Версале — сенатор; горничные принимают участие в управлении; если они не дают приказаний, то, по крайней мере, мешают исполнению закона и всяких правил; а при этой постоянной помех нет более ни закона, ни распоряжений, ни распорядителей… Версаль — это могила народа» (р. 93). Духовная и светская аристократия подобны генеральному штабу, который, думая только о своей выгоде, удалился бы от армии. Прелаты и сеньоры стоят одиноко среди провинциального дворянства, которому не дают хода, и среди простого духовенства (curés), которое борется с материальной нуждой и в критическую минуту покинет своих вождей.
Над этим привилегированным миром стоит лицо, обладающее громаднейшими привилегиями, это — сам король; он наследственный главнокомандующий в этом наследственном генеральном штабе. Французский король — государь, который может все сделать, во главе аристократии, которая ничего не делает. Правда, его должность не превратилась в синекуру; но ему вредит излишество власти, отсутствие всяких пределов. Незаметно захватывая все власти, король взял на себя все обязанности; задача безмерная, превышавшая человеческие силы. Зло, проистекавшее из такого порядка вещей, могло огорчать короля, но не тревожило его совести; он мог иметь сострадание к народу, но не считал себя виновным перед этим народом. Франция принадлежала ему, как феодальная вотчина (домен) принадлежит сеньору. Основанная на феодализме, королевская власть была его собственностью, родовым наследием, и было бы слабостью с его стороны, если бы он дозволил уменьшить этот священный залог, переходящий от поколения к поколению. «Король не только, по средневековому преданию, военачальник французов и собственник Франции, но и по теориям легистов он, как цезарь, единственный и постоянный (perpétuel) представитель нации, а по учению богословов, он, как Давид, священный, прямой наместник (délégué) самого Бога» (р. 102).
При таком положении дел не может быть и речи о том, чтобы поставить предел произвольному распоряжению государственным достоянием, несмотря на то что во многих отношениях интерес короля и его самолюбие совпадали с общею пользой. У него есть опытные советники; по их указанию, введены многие реформы и основаны благодетельные учреждения. Но в феодальном ли виде или в преобразованном, Франция все-таки остается собственностью короля, которою он может злоупотреблять по своему усмотрению.
Таким образом центр государства, в Версале, был в то же время и центром зла. феодальный порядок, охватывавший в Германии и Англии живое еще общество, во Франции превратился в рамку, механически сжимавшую массу людских атомов. В этом обществе еще сохранился внешний порядок, но в нем уже нет порядка нравственного.
Это описание общественного строя дореволюционной Франции тем более эффектно, что оно построено у Тэна на рельефном противоположении древней эпохи, когда духовенство и дворянство были «спасителями» общества — позднейшей, когда их преимущества и жертвы, приносимые им народом, не оправдывались никакими с их стороны заслугами. — Тэн не пожалел красок при изображении того значения, которое имели средневековая церковь и феодальная барония, чтобы с помощью контраста еще ярче изобразить неразумность сословных привилегий XVIII века. Но в данном случае, как и в других подобных, литературный эффект ослепил самого автора-художника. Исходя из совершенно верной мысли, что происхождение привилегий прелатов и сеньоров стоит в связи с общественной ролью, которую они играли в прошлом, Тэн преувеличил их заслуги. Церковь и даже самая религия у него являются как бы продуктом духовенства, [14] а государственный строй — делом феодальных сеньоров. Конечно, преобладающее значение духовенства в средние века объясняется его религиозною ролью, но сословные его привилегии вытекают из того положения, которое французское духовенство заняло в государстве, как землевладельческое и феодальное сословие. Подобным образом нужно сказать, что услуги, оказанные военными людьми обществу в анархическую эпоху, последовавшую за Карлом Великим, играли несравненно меньшую роль в создании феодальных привилегий, чем захват государственных функций, присвоенных местной аристократией еще в эпоху, предшествовавшую Карлу Великому, да и самая анархия IX и X века была делом феодализма, разложившего возникавший государственный строй. Далее нужно иметь в виду, что сословные привилегии французской аристократии, хотя источник их и заключается в суверенной власти феодалов, обусловливаются также особенностями следующих затем исторических эпох — ведь не сохранила же английская аристократия существенных привилегий феодального времени. Одну из главных причин привилегий французской аристократии, как светской, так и духовной, нужно искать в той роли, которую играла аристократия в позднейшем объединении французского государства. Сомкнувшись вместе с прелатурой в генеральных штатах, аристократия содействовала королевской власти в организации государства, но вместе с тем успела сохранить в виде привилегии то, что некогда было государственной функцией или её последствием.
Что касается королевской власти, то сопоставление династии с прелатурой и аристократией в одну категорию «привилегированных классов», изображение короля в качестве наиболее привилегированного лица — у Тэна чрезвычайно удачно, проливает много света на общественный и государственный строй старой Франции и многое объясняет в истории французской революции. Можно только пожалеть, что Тэн как будто недостаточно сам оценил значение этой мысли и не извлек из неё того вывода, который всего важнее для историка, ставящего себе задачею выяснить происхождение революции из «старого порядка». Нужно было указать на то, что монархическая власть, развившаяся из феодального суверенитета, сохранила вследствие этого во многом частный, феодальный характер, представлялась самой династии как бы наследственной привилегией — и что это обстоятельство есть главная причина поразительной солидарности, установившейся между династией и привилегированными сословиями; оно всего более тормозило самые необходимые реформы, заставляло королевское правительство щадить и даже оберегать в эпоху развития полного абсолютизма самые отжившие привилегии, не только ненавистные большинству населения, но даже и вредные интересам самого правительства. Эта солидарность династии с привилегированными классами наложила на внутреннюю политику монархии старого порядка ту печать легитимизма при деспотизме, которая составляет самую яркую черту этой исторической формы. Эта же солидарность определила образ действия династии во время французской революции и имела, поэтому, глубокое влияние как на историю и исход этого переворота, так и на дальнейшую судьбу Бурбонской династии и легитимизма во Франции. Еще важнее, однако, другое упущение, которое можно поставить в укор Тэну. Политическая роль прелатуры и дворянства в старой Франции почти исчерпывается их образом действия в качестве привилегированных сословий. Но этого никак нельзя сказать о короле и династии. Историческая роль французских королей отнюдь не может быть отождествлена с охранением привилегий. Монархия «старого порядка» знаменует собою не только принцип привилегий, но и принцип государственного и национального объединения и вытекавшие отсюда стремления к административной централизации и бюрократическому абсолютизму. Оттого историческая роль привилегированных классов Франции была окончательно сыграна со времени Лиги и Фронды, когда они вступились за свои привилегии, не внося в борьбу никакой новой, прогрессивной идеи, и с этих пор они представляют только тормоз в историческом развитии страны. Королевская же власть, при всем своем феодальном характере и при всей солидарности с привилегированными классами, представляла собою в то же время принцип реформы и прогресса. [15] От того отношение нации во время революции к привилегированным классам и к королю было так различно; оттого этот переворот отразился столь противоположным образом на их судьбе революция окончательно подорвала аристократический принцип в церкви и государстве; монархический же принцип не погиб во время революции; уничтожен был только его феодальный характер, монархия лишилась тех преимуществ, которые вытекали из привилегии и вследствие этого — только феодальная монархия сделалась невозможной во Франции. Другой же принцип, носителем которого была монархия, — принцип объединения и централизации власти, был даже усилен устранением всех преград, стеснявших его в виде феодальных к местных привилегии, а потому непосредственным последствием революции было установление империи, т.е. монархии более сильной и абсолютной, чем монархия Людовика XIV.
Тэн, правда, кое-где упоминает о преобразовательной деятельности королевского правительства, о таких его мерах, которые не вытекали из принципа привилегий, но он касается их только для того, чтобы и о них сказать, что они служили к упрочению этого принципа. От него совершенно укрылся дуалистический характер древней французской монархии, это замечательное соединение феодальной и бюрократической политики. Таким образом, положение монархии в дореволюционной Франции у Тэна неполно охарактеризовано, и этим затруднено правильное разрешение одной из существенных задач историка революции — верное определение отношений революции к принципу государственной власти.
Причину такого недостатка не трудно указать. Она заключается отчасти в том, что Тэн увлекся мыслью подвести монархию Людовика XIV под категорию привилегий феодальной эпохи, а именно это придало его описанию общественного строя королевской Франции такой яркий колорит; главным же образом эту причину нужно искать в свойствах таланта Тэна и характере его занятий. Тэн — историк литературы и притом представитель той школы, которая видит в литературных произведениях преимущественно выражение бытовой жизни народа и пользуется ими главным образом как материалом для истории общества и его культуры. Обратившись к истории, Тэн не сделался историком государства, историком-юристом; его интерес по-прежнему сосредоточивался на культуре общества, на типах и людях. Поэтому и сила его таланта должна была преимущественно проявиться в тех частях его сочинения, где ему приходится быть живописцем общества, описывать его нравы и идеи. Поэтому вторая книга — «Нравы и характеры» по интересу, по оригинальности и по общему значению стоит гораздо выше первой.
Сколько раз были описаны роскошь и великолепие двора Людовика XIV, и расточительная обстановка, среди которой Людовик XV провел полвека! Кто не знаком с Версальским дворцом и садом! Кто не видел изображений тогдашней придворной обстановки, и кто не читал много раз о светских французских салонах! Изображать вновь этот всем знакомый мир, перечислять придворные должности, приводить цифры громадных сумм, которые тратились на королевский стол, на прислугу, экипажи и версальские празднества, на всю роскошь французского двора, который в этом отношении долго был образцом для всей Европы — это задача чрезвычайно трудная для историка, который желает быть оригинальным и не хочет наскучить читателю, повторяя общеизвестные факты. Тэн блистательно исполнил эту задачу. Подобно тому, как Монтескьё удалось одним удачным словом раскрыть жизненный принцип политического строя старой французской монархии и определить тип этой политической формы, её существенное отличие от аналогических форм, — так, можно сказать, удалось Тэну открыть принцип общественной жизни и нравов этой монархии и с помощью этого принципа сгруппировать бесчисленные мелкие факты и черты в стройную картину, впечатление которой неотразимо.
Монархия Людовиков — салон, в котором король представляет хозяина дома; в этом заключается существенная черта новой эпохи в истории Франции, от Мазарини и до 1789 г. На жизни и обстановке французских королей отразились все великие эпохи в истории Франции, все перемены, постепенно совершавшиеся в её государственном строе. Кто хочет знать, что такое была Франция при Меровингах, тот пусть прочтет у Ог. Тьерри описание усадьбы Хильперика и его жены Фредегунды, описание, которое дышит наивностью и простотой тех диких времен. Кто хочет, не читая много мемуаров и ученых сочинений, иметь наглядное понятие о Франции при Людовик XIV, может ограничиться второй книгой Тэна. «Двор французского короля представляет в эту эпоху, как выражается Тэн, зрелище генерального штаба в отпуску (en vacances), продолжающемся полтора века, где главнокомандующий принимает гостей у себя в салоне (tient salon)».
Когда-то, в первые времена феодализма, при простоте нравов и товариществе в лагере и в замке вассалы лично прислуживали королю, кто — заботясь об его помещении, кто — принося кушанье к его столу, тот — помогая ему вечером раздеваться, другой — надзирая за его соколами и лошадьми. И теперь, как прежде, они с шпагой на бедре усердно толпятся вокруг него, ожидая одного слова, одного знака, чтоб исполнить его желание, и самые знатные между ними исправляют по виду должность служителей. Но давно уже великолепный парад заменил действующую рать (action efficace); дворянство давно перестало быть полезным орудием и сделалось изящным украшением.
Конунга, окруженного дружиной, заменил сначала сеньор, окруженный рыцарями, но рыцари постепенно превратились в маркизов, двор превратился в «салон». Этим все сказано; вокруг этого представления группируются все факты, им объясняются все нравы и обычаи до мелочей. Столица новой монархии, Версаль, нарочно устроена, чтоб служить салоном для всей Франции, для того, чтоб дать возможность собраться всему, что было аристократического и великосветского около хозяина Франции.
В королевской резиденции или около неё на 10 миль кругом все родовитые люди Франции имеют свои резиденции, свои отели, которые представляют целую гирлянду архитектурных цветков, из которых каждое утро вылетает множество раззолоченных ос, для того, чтоб поблистать и набраться добычи в Версали, в центре всякого блеска и изобилия. Самый королевский дворец — ничто иное, как ряд блестящих салонов; тот же характер имеет и вся остальная обстановка. Цветники и парк опять-таки представляют салон, только на воздух; природа не сохранила здесь ничего естественного; она везде изменена и исправлена для удобства общества; это уже не место, где можно побыть наедине и отдохнуть, а общественное гулянье, где все прохаживаются и раскланиваются друг с другом.
Королевские салоны постоянно наполнены многочисленным обществом, жизнь и обстановка этого общества еще сохранили много черт первоначального дружинного быта; королю необходима громадная свита; ему необходимы отборные телохранители, для него и его свиты нужен отборный конный двор; кавалер должен быть прежде всего искусным всадником. Другую феодальную забаву составляет охота. Все окрестности Парижа на 10 миль кругом входят в состав королевского парка, где никто не смеет сделать ни одного выстрела. Тот же феодальный обычай требует открытого и роскошного стола для гостей и для свиты короля; в Шуази еще в 1780 г. накрывалось 16 столов с 345 кувертами.
Вот те рубрики, которые дозволяют Тэну, не утомляя читателя, наполнять целые страницы перечислением придворных должностей и цифровых данных, которые он резюмирует следующим образом:
«В итоге около 4 тысячи человек в гражданском придворном штате (maison civile du roi), 9 или 10 тысяч человек в военном штате, 2 тысячи человек в штате членов королевского дома, — всего 15 тысяч человек, содержание которых стоило от 40 до 45 миллионов, составлявших в то время десятую часть государственного дохода».
Прилив в королевский салон постоянно поддерживается двумя причинами: одна заключается в сохранении феодальных форм, другая — во введении новой централизации. Первая привлекает вельмож к королю для оказания ему личных услуг при его одевании, за его столом, на его выходах и прочем. Вторая превращает этих вельмож в просителей. Но в качестве ли слуг короля или просителей, вельможи — его постоянные, а иногда наследственные гости; они помещены у него во дворце, находятся в ежедневном и близком общении с ним. Эта придворная жизнь метко характеризуется советом, который испытанный куртизан дает молодому дебютанту: «Вы должны иметь в виду только три вещи: говорите обо всех хорошо, просите всего, что окажется доступным (ce qui vaquera), и садитесь, когда можно». Но эта жизнь налагает тяжелые обязанности на хозяина: «Не легкая вещь быть хозяином дома, особенно когда даже в обыкновенное время нужно принимать пятьсот человек; приходится проводить весь век в публике и служить зрелищем; постоянное, ежедневное театральное представление (représentation) неразлучно с положением короля и так же обязательно для него, как шитое золотом тяжелое платье, которое он надевает при церемониях». — «Король должен занимать всю аристократию, следовательно, расплачиваться своей особой и показываться во все часы дня, даже в самые интимные часы, даже выходя из постели, даже в постели». К этой характеристике естественным образом примыкает описание утреннего одеванья короля — «этой пьесы в пяти актах», как выражается Тэн, и других подобных церемоний. «Кулисы королевской жизни постоянно открыты для публики; даже если король нездоров и ему дают лекарство или приносят чашку бульону, дверь растворяется для большего входа». Это постоянное пребывание в салоне или на сцене придает придворному обществу особый отпечаток. Тонкими штрихами рисует Тэн утонченные нравы этого общества и заключает свою картину изящной, хотя несколько изысканной метафорой, которую мы приводим на французском языке, так как в переводе она показалась бы натянутой: «Il faut cent mille roses, dit-on, pour faire une once de cette essence unique qui sert aux rois de Perse; — tel est ce salon, mince flacon d’or et de cristal; il contient la substance d’une végétation humaine. Pour le remplir il a fallu d’abord qu’une grande aristocratie, transplantée en serre-chaude et désormais stérile de fruits, ne portât plus que des fleurs, ensuite que dans l’alambic royal, toute sa sève épurée se concentrât en quelques gouttes d’arome. Le prix est excessif, mais c’est à ce prix qu’on fabrique les très-délicats parfums». [16]
Хотя Париж и провинция не в состоянии соперничать с Версалем, они ему подражают, и вся Франция постепенно превращается в ряд салонов. «Таким образом, весь генеральный штаб феодальной эпохи переродился, начиная с первых и кончая последними чинами. Если бы возможно было обнять одним взглядом все 30 или 40 тысяч дворцов, замков и аббатств, какая это была бы блестящая декорация! Вся Франция превратилась в салон, и я в ней вижу одних только светских людей (gens du salon)».
Повсюду суровые вожди, облеченные властью, превратились в хозяев, исполненных любезности. Они принадлежат к тому обществу, где прежде, чем высказать одобрение полководцу, спрашивали: «Любезен ли он?» — Конечно, дворяне носят еще шпагу, они храбры из самолюбия и по преданию, они умеют умереть с честью, особенно на дуэли. Но светский лоск прикрыл прежнюю военную основу. В конце XVIII века их главный талант заключается в умении жить (savoir vivre), а главное занятие — в приемах у себя и в визитах. С таким же искусством описаны у Тэна последствия салонной жизни; легкомысленно и равнодушно относится салонное общество к интересам государства, к проигранному сражению или дефициту, и даже нередко выражает свое пренебрежение к подобным вещам в остротах и эпиграммах. Такою же беззаботностью отличается аристократия к собственным интересам; — отсюда у всех расстроенное хозяйство и при этом самые изысканные и прихотливые траты, мания «разоряться во всем и на все».
Еще важнее влияние салона, на семейную жизнь: «Если в салоне мужчина не обращает ни малейшего внимания на одну из женщин, то это значит, что это его жена, и наоборот»; поэтому в обществе, где каждый живет только в салоне и для салона, не может быть интимной супружеской жизни. В то же время, под влиянием салонных нравов, самые страсти стушевываются, — любовь становится ухаживанием, превращается в обмен двух прихотей, ревность неизвестна; приличие соблюдается всегда и во всем; даже в минуту самого сильного возбуждения язык должен быть воздержен, безупречен; детьми заниматься родителям некогда; но их воспитывают для салона, и уже в возрасте 5 или 6 лет они имеют вид светских дам и кавалеров в миниатюре и говорят языком взрослых.
Другое последствие салонной жизни заключается, по верному замечанию Тэна, в том, что она дает большое преимущество женщине, дозволяя ей свободно развивать и проявлять свойственные ей способности; оттого в эту эпоху женщины господствуют в обществе и им управляют.
Утонченность, веселость, театральность, а потому страсть к театру, составляют отличительную черту этой жизни и придают ей особый аромат, который действовал, как говорит Тэн, упоительно на иностранцев — и, как видно, отчасти подействовал так и на историка, с такой любовью и увлечением он его описывает.
Перед такой блестящей картиной быта и нравов должна умолкнуть всякая критика. Критик становится простым референтом и с трудом может оторваться от подлинника, неохотно воздерживаясь от удовольствия приводить все страницы и места, которые особенно удались автору. Вторая книга, без сомнения, представляет лучшую часть всего произведения. Талант Тэна имел возможность развернуться здесь в полном блеске; ему не мешала в этом никакая школьная доктрина, бросающая ложный свет на картину, как в третьей книге, не мешала и «злоба дня», как в пятой. Двор Людовика XIV и жизнь его аристократии, — когда-то предмет бесконечных обличений и ожесточенных нападок, — в настоящее время настолько отошли в область воспоминаний, что сатирик может уступить место художнику, и историк, водя читателя по разукрашенным залам Версальского дворца и вспоминая о безрассудных тратах и легкомыслии его обитателей, в то же время может наслаждаться, как перед картиной Вато, и блеском красок, и утонченной грацией жизни, которые были плодами этих трат и этого легкомыслия. Тэн это понял своей тонкой натурой, и его дар пластического, живого образа дал ему возможность развернуть перед читателем столь же привлекательную, сколько и правдивую в научном отношении картину. Эта картина оставляет после себя тем более глубокое впечатление, что Тэн вполне артистическим образом сменил ее другой картиной, представляющей совершенный контраст колорита. За цветущей эпохой «салонов» следует другая, когда содержание салонной жизни изменяется, а затем быстро и неожиданно наступает катастрофа, поглотившая это блестящее общество салонов и обнаружившая его слабость и нравственную несостоятельность.
Салонная жизнь, как она ни была приятна, с течением времени начала казаться пустой; искусственность и сухость, составляющие принадлежность светской жизни, доведены были до крайности; число дозволяемых светом поступков было так же ограничено, как и число принятых модою слов; беззаботное равнодушие породило эгоизм. Женщины первые стали тяготиться таким положением дела, и тогда, под влиянием моды, начала развиваться иного рода аффектация — чувствительность. «Речь зашла о том, что нужно возвратиться к природе, восхищаться деревней и простотой сельских нравов, интересоваться поселянами, быть гуманным, иметь сердце, наслаждаться прелестью и нежностью естественных привязанностей, быть мужем и отцом; более того, нужно иметь душу, добродетели, религиозные чувства, верить в провидение и в бессмертие души, быть способным к энтузиазму». Литература, живопись, театр начинают служить новой моде; под её влиянием изменяются обычаи, семейная жизнь и отношение светского общества к народу. Чувства, речи и нравы получают идиллический оттенок, и весь мир представляется идиллией. Эта перемена окончательно ослабляет и обезоруживает некогда воинственную аристократию. «А между тем в этом мире, — замечает историк, тот, кто хочет жить, должен бороться. Владычество есть принадлежность силы, как в природе, так и в мире человеческом. Всякое существо, теряющее искусство и энергию защищаться, делается добычей грубых инстинктов, которые его окружают, и тем вернее, чем ярче его блеск; неосторожность и даже привлекательность его выдают заранее». Но французская аристократия не понимает опасности, ей грозящей; живя в своей узкой сфере, она не знает действительности; не бывало еще никогда в мире примера такого полного и добровольного ослепления. Когда опасность становится очевидной, у аристократии не оказывается силы ей противодействовать. Всякое решительное, несколько грубое действие противно обязанностям, которые светская жизнь налагает на каждого благовоспитанного человека.
«Против дикой, свирепеющей толпы — они (les princes et les nobles) совершенно беспомощны. Они не обладают более тем физическим превосходством, которое может обуздать эту толпу, ни тем грубым шарлатанством, которое ее привлекает, ни теми уловками плута Скапена, [17] какими он умеет отвести глаза; а для того, чтобы укротить свирепость разнузданного зверя, нужно было бы употребить в дело все средства энергического темперамента и животной хитрости». [18] Но этих средств у них нет; всесильное воспитание подавило, смягчило, ослабило в них самый жизненный инстинкт. Даже в виду смерти у аристократа-француза. не закипает кровь от гнева, не напрягаются мгновенно все силы и способности, не является слепой, неудержимой потребности бить того, кто бьет. Они послушно идут в тюрьму, — ведь буйство было бы неприлично. И в тюрьме они продолжают вести салонную жизнь: «Как женщины, так и мужчины продолжают одеваться с тщанием, делают друг другу визиты, одним словом, заводят у себя салон, хотя бы то было в конце какого-нибудь коридора, при четырех свечах; тут шутят, пишут мадригалы, сочиняют песенки: они стоят на том, чтоб и здесь оставаться любезными, веселыми и изящными по-прежнему. Неужели нужно сделаться мрачным и утратить благовоспитанные манеры из-за того только, что случайно вас засадили в плохую гостиницу? — Даже перед судьями, на колеснице, везущей их на казнь, они сохраняют свое достоинство и свою улыбку; особенно женщины идут на эшафот с той же легкостью поступи, с тем же ясным лицом, с каким они, бывало, принимали гостей у себя в салоне. Это — высшая степень жизненного искусства (savoir vivre), которое было возведено в единственный долг и сделалось для этой аристократии второю природой; эту черту мы находим везде как в хороших свойствах, так и в пороках, в способностях и в слабостях аристократии, в её процветании и в её падении; эта же черта скрашивает самую смерть, до которой она и довела аристократию».
Описывая трагическую судьбу той части французской аристократии, которая сделалась жертвой террора, Тэн вышел из пределов задачи, поставленной для первого тома, но такое заключение эпопеи «салонов» было ему необходимо для полноты исторического образа. Реалистический язык, представления и сравнения, заимствованные из области животного царства, делают мысль автора еще рельефнее и усиливают впечатление, производимое на читателя этим эпилогом.
Указание на салонный характер двора и всей жизни французской аристократии служит для Тэна не только средством, чтоб осмыслить все собранные им бытовые факты и черты, чтоб объяснить историческую рол и судьбу французской аристократии, но автор, в то же время, пользуется этим, чтоб пролить особый свет на характер умственного движения во французском обществе XVIII века и объяснить результаты, которые оно дало во время революции. Оригинальная мысль — представить королевскую Францию в виде блестящего салона — служит Тэну звеном, связующим обе половины его сочинения, и дает ему возможность рельефнее, чем то удалось кому-либо из его предшественников, выставить на вид взаимную связь, существовавшую между французским обществом и французской философией в XVIII веке, между историческими фактами и идеями, между политическим режимом и доктриной.
Те современники французской революции, которые были её противниками, считали главным образом философию XVIII века причиной своих несчастий, а писатели-легитимисты и клерикалы и теперь еще держатся такого взгляда и обвиняют во всем превратные идеи Вольтера, энциклопедистов — и франкмасонов. Иначе поступают защитники революции: не отрицая культурного значения философских идеи XVIII века, они подробно останавливаются на признаках, указывавших на гнилость политического и общественного строя старого порядка. Некоторые из либеральных историков считают даже непосредственное влияние философии очень незначительным. Зибель, например, указывая на состояние цензуры и книжной торговли, уверяет, что идеи Вольтера и Руссо мало проникали в ряды буржуазии, а Валлон, автор одного из новейших сочинений, касающихся состояния Франции до 1789 г., выражается так об этом вопросе: «Историки, считавшие философию славной или позорной виновницей революции, очевидно, заблуждались, и их ошибка, которую по очереди эксплуатировали самые различные партии для того, чтоб возвеличить философию, или же с целью смягчить вину духовенства, — эта ошибка не позволила последующим поколениям извлечь из этого кровавого прошлого должное поучение». У Тэна этот вопрос получает первостепенное значение. Он не только говорит подробно о руководящем влиянии философии XVIII века, но он анализирует ее и объясняет, в чем именно заключалось это влияние — притом не только на происхождение революции, но и на самый характер, на ход и исход её.
Тэн в этом вопросе также оригинален и блестящ, как в изображении салонного характера общественной жизни и культуры Франции. Задолго до революции в салонах Франции господствовал революционный дух. Этот революционный дух сложился, по мнению Тэна, из двух составных элементов, из которых один обозначается у него выражением: l’acquis scientifique; другой — l’esprit classique. Оба эти составные элемента сами по себе представляют, по его мнению, здоровую и полезную пищу ума, но смешение их дало в результате яд, хотя и сладкий, и потому жадно впивавшийся обществом того времени. Этот яд и придал философии то одуряющее и отравляющее свойство, которое вызвало бред и конвульсии в нации.
По его определению, acquis scientifique заключается в твердых результатах, которые добыты математическими и естественными науками. Эти результаты, сначала медленно наконлявшиеся, вдруг так быстро разрослись, что дали возможность построить на них целое мировоззрение. Под их влиянием изменился взгляд на человека и его положение в мироздании; земной шар оказался песчинкой в мире; органическая жизнь на земле — атомом, эфемеридой, человек — животным среди других подобных ему, по своей организации, животных; все человечество — лишь последней почкой на стволе органической жизни, а его история — эпизод в длинной истории земного шара и органического мира. Если, говорит Тэн, еще подлежит спору свойство жизненного принципа, проявляющегося в природе — внутренний ли он или внешний, — то способ действия его вне спора: он действует только по общим и непреложным законам. Власти этого закона подлежат не только миры — неорганический и органический, но и человеческие общества, также как и идеи, страсти и воля отдельного человека. Под влиянием этого открытия изменились и научные приемы; мыслители XVII века отправлялись от догмы, мыслители XVIII века — от наблюдения. Оттого все замечательные ученые и литераторы этой эпохи занимались при своей специальности естественными науками. Науки нравственные или науки, имеющие предметом человека, отрываются от богословия и составляют как бы продолжение наук естественных. История представляется совсем в ином свете, чем прежде. В своем «Опыте о нравах» Вольтер показывает, что первобытный человек был грубым дикарем; что история человека представляет естественно-историческое явление; что нет никаких внешних сил, которые направляли бы ее; существуют только внутренние силы, которые ее слагают; у неё нет цели, но есть результат; этот результат заключается в прогрессивном развитии человеческого духа.
В то же время, Монтескьё открывает другой принцип, необходимый для исторической науки: он показывает, что учреждения, законы и нравы не составляют бессвязного, случайного аггрегата, но гармонически и взаимно связаны между собой. Наконец, психология делает открытие, что в основе душевной жизни лежит ощущение. «С помощью этой идеи один из самых точных и необыкновенно ясных умов, Кондильяк, дает почти на все важные вопросы ответы, которые, благодаря возродившемуся богословскому предубеждению и вторжению немецкой метафизики, потеряли у нас вес в начале XIX века, но которые, при помощи возобновившегося наблюдения над патологией ума и многочисленных вивисекций, теперь снова ожили».
Таким образом результаты, которые дали французам математические и естественные науки, были, по мнению Тэна, вполне правильны и плодотворны. Они представляли собою величественное здание, с высоты которого раскрывался новый и обширный взгляд на мир, но дело в том, что строение их глаза не было приспособлено к этому зрелищу. Под этим Тэн разумеет свойство ума тогдашних французов, — la forme, fixe d’intelligence, которым обусловливалось их новое мировоззрение. Это свойство их ума, разрабатывавшего результаты современной науки и породившего философию XVIII века и доктрину революции, Тэн обозначает выражением «l’esprit classique». Классический дух проявляется прежде всего в ораторском слоге, в манере говорить и писать, которой подчинены все литературные произведения того времени. Этот ораторский слог есть продукт досужей аристократии, у которой монархия, захватившая все в свои руки, отняла всякое дело. Ораторский слог явился вследствие привычки говорить, писать и думать исключительно в виду аудитории салонов. Под влиянием салонной жизни язык постепенно беднеет, теряя множество слов, не принятых в благовоспитанном обществе, и становится бесцветным; речь состоит почти исключительно из общих выражений. Сообразно с этим преобразовалась грамматика; она не дозволяет, чтобы слова следовали одно за другим согласно изменяющемуся порядку впечатлений и психических побуждений, но указывает каждому понятию, каждому слову вперед определенное место. Тот же метод, который слагал фразу, определял построение периода и управлял слогом. Французский язык выиграл в ясности, но он сузился в объеме, он получил математический характер. Чувствуется, что этот язык как бы создан для того, чтобы объяснять, доказывать, убеждать и популяризировать; недаром становится он языком всей Европы, международным языком, любимым органом разума. Но разум, которому этот язык служит органом, — особого свойства; это разум рассуждающий (raison raisonnante); разум, который мыслить с наименьшей подготовкой и с возможно большим удобством для себя, который довольствуется нахватанным запасом познаний, не желает ни увеличить ни возобновить его, который не умеет или не хочет обнять всю полноту и сложность реального мира. Классический язык неспособен схватывать и описывать детали, непосредственные чувства, крайнее проявление страсти, индивидуальные черты; он склонен пробавляться общими местами, и логическое сплетение его фраз дает хрупкую, филигранную работу, художественную, но малополезную или даже вредную на практике.
По характеру языка можно себе составить понятие о дух, которому он служит органом. Из двух операций человеческого ума — восприятия впечатлений и анализа их, или извлечения понятия из них — классический дух силен только во второй. Вследствие этого развивается способность писать — сочинять. Под влиянием этой способности все произведения человеческого слова: ученые сочинения, философские трактаты, официальные документы и депеши, наконец, частные письма, — все это получает литературный характер, а литературные произведения отличаются ораторским пошибом.
Это указывает на важные недостатки классического духа. Вместе с искренним чувством замирает лирическая поэзия; в драматургии классический дух способен воспроизводить только одного рода лица, — людей света, обитателей салонов, да и те лишь на половину реальны: в них общечеловеческие черты преобладают над индивидуальными, — оттого это отвлеченные типы, а не живые лица. Классический дух, вследствие своей узкости, которая все увеличивается к концу века, не способен реально представить индивидуальности, как они существуют в природе, или как они являлись в истории, — ему остается только пустая отвлеченность. Обществу недостает исторического чутья: оно полагает, что человек везде и во все времена один и тот же; оно видит в человек только разум, всегда и везде одинаково рассуждающий. Это происходит оттого, что вся литература, даже роман, занимается только салонами, как будто вне их ничего не существует. Во время революции образованное общество еще более изолируется. Оттого в речах ли, произносимых на трибуне, или в клубах, нигде не видно понимания действительного человека, каков он в селах и на городских улицах. Народ представляется простым автоматом с общеизвестным механизмом. Писатели считали его годным только для произнесения фраз; теперь политические деятели видят в нем машину для подачи голоса, которую достаточно подавить пальцем в известном месте для того, чтоб заставить дать тот или другой требуемый ответ. «В этих речах мы никогда не находим фактов, а одни только отвлеченности: целый ряд рассуждений о природе, о разуме, о народе, о тиранах, о свободе, — все это в роде каких-то пузырей, напрасно вздутых и пущенных в пространство. Если бы не знать, что все это привело на практике к ужасным последствиям, можно было бы принять это за логическую игру, за школьное упражнение, за парадные академические речи, за соображения идеологов. Именно эта идеология, последний результат века, дает последнюю формулу и скажет последнее слово классического духа».
Классический дух усвоил себе математический метод. Он заключается в том, чтобы, взявши несколько очень простых и общих понятий и не справляясь с опытом, сравнивать и комбинировать их, и из полученного результата выводить посредством чистых рассуждений всевозможные последствия. Этот метод одинаково преобладает как у приверженцев «чистой идеи», так и в школе сенсуалистов, хотя бы они называли себя последователями Бэкона и отвергали врожденные идеи. Подобно тому, как Кондильяк присваивает психологии арифметический метод, так Сиез, относясь с глубоким презрением к истории, прилагает тот же способ к политике. Как Кондильяк с помощью ощущения считал возможным объяснить строй человеческой души, так Руссо, на основании понятия о договоре, смело строит новое общество и государство. Кондорсе восхваляет этот метод как последний шаг философии, с помощью которого она поставила вечную преграду между современным человечеством и старинными заблуждениями его младенчества. Посредством этого метода открыты права человека, выведенные математическим путем из одного основного понятия. Взаимодействие двух составных элементов, т.е. научного результата и господствовавшего во Франции классического духа, породило доктрину, которая показалась новым откровением. Эта доктрина заключалась в убеждении, что наступил век разума и царство истины и что право этой истины должно быть признано абсолютным.
Опираясь на признанный за ним новый авторитет, разум принялся критиковать все существующее и пересматривать его права на жизнь. До сих пор роль, которую играл разум в человеческом обществе, была незначительна; он уступал первое место преданию. Но теперь роли их меняются. Монархия Людовика XIV и Людовика XV расшатала авторитет предания; с другой стороны, наука возвысила, авторитет разума. Предание сходит на второй план и первое место занимает разум, подвергая своему анализу государство, законы, обычаи.
По мнению Тэна, беда заключалась в том, что разум, принимая на себя проверку всего существующего, не был просвещен исторической наукой, не понимал значения предания пли, как здесь выражается Тэн, наследственного предрассудка. И разум, вместо того чтобы признать в своем сопернике старшего брата, с которым нужно поделиться, усматривал в его владычестве одну лишь узурпацию.
В оценке тех исторических явлений, которые Тэн разумеет под именем «наследственных предрассудков», мы опять встречаемся с тем реалистическим отношением к истории, на которое мы указывали уже по поводу первой книги. Тэн видит в «наследственных предрассудках» своего рода бессознательный разум — une sorte de raison qui s’ignore; он говорит, что предание, подобно науке, коренится в длинном ряде накопленных опытом истин. Обычаи и поверья, которые нам теперь кажутся произвольными, условными, были первоначально общепризнанными средствами, служившими для общественного блага. «Культура человеческой души основана на целом ряде обычаев, долго неизвестных человеку и лишь медленно, постепенно установившихся; они заключаются в следующем: не употреблять в пищу человеческого мяса, не убивать бесполезных стариков, не бросать, не продавать и не убивать слабых детей, питать отвращение к кровосмешению и всяким другим противоестественным обычаям, быть единственным и признанным владетелем особого поля, внимать высшему голосу скромности, человеколюбия, чести, голосу совести. Вообще, чем древнее и чем более распространен какой-нибудь обычай, тем более он имеет основания в глубоких соображениях физиологического или гигиенического свойства и в общественной предусмотрительности».
Так, например, касты Тэн объясняет «необходимостью сохранить в чистоте расу героическую и мыслящую, устраняя примесь худшей крови, которая повлекла бы за собою умственное расслабление или преобладание низших инстинктов». В таком же дух объясняется государство и религия. По мнению Тэна, государство, по крайней мере в Европе, по своему происхождению и существу военное учреждение, где героизм сделался защитником права. Религия по своей сущности — метафизическая поэма, сопровождаемая верой. «Ей нужны обрядность, легенда, церемонии для того, чтоб действовать на народ, на женщин, на детей, на простодушных, на человека, погруженного в практическую жизнь, наконец, на самый человеческий ум, так как идеи невольно воплощаются в образы. Благодаря этой осязательной форме, религия может положить на весы человеческой совести страшную тяжесть, она может служить противовесом эгоизму, задерживать безумный поток грубых страстей, устремить волю на самоотвержение и преданность (dévouement), она может оторвать человека от него самого, чтобы предоставить его всего служению истине или своему ближнему, создать аскетов и мучеников, сестер милосердия и миссионеров».
Но это унаследованное предание, кроме того, что оно, подобно инстинкту, есть слепое проявление разума, имеет еще другое право на уважение со стороны последнего. Дело в том, что разум для того, чтобы получить практическое значение, должен сначала сам принять форму предания и предрассудка. Чтоб какая-нибудь доктрина овладела умами людей, сделалась руководящим мотивом действия, необходимо, чтоб она превратилась в привычку, сделалась предметом веры и бессознательного влечения. За исключением немногих ученых большинство людей все еще получает свои идеи свыше, и академия наук во многих отношениях заступает место древних соборов. Разум же в XVIII веке не обладал ни достаточным историческим опытом, ни способностью руководиться опытом. Вследствие этого никто не понимал в то время ни прошедшего, ни настоящего. Не зная людей, нельзя было понять учреждений; никто не подозревал, что истина должна была облечься в легенду, что право могло утвердиться только посредством силы, что религия должна была принять жреческий характер, а государство — характер военный. Не объяснив себе прошлого, нельзя было уразуметь настоящее. Никто из салонного общества не имел верного понятия ни о крестьянах, ни о жителях провинциальных городков и первобытном состоянии их ума. Никому не приходило в голову, что 20 миллионов людей, и даже больше, едва возвысились над умственным состоянием средних веков, и что поэтому общественное здание, для них пригодное, должно было в своих общих очертаниях сохранять средневековой строй. Одним словом, никто не сознавал, что неразвитым, бессознательно живущим людям — «il n’y а de religion que par le curé — et d’état que par le gendarme» — религия доступна только в образе священника, а государство — в образе жандарма.
Вследствие коренного заблуждения разума, не оценившего того значения, какое имели наследственные предрассудки, он ополчился против предания с тем, чтобы ниспровергнуть его владычество и заменить царство лжи — царством истины. Эта ошибка разума проистекала из салонного характера французского общества и его образования.
В этой мысли заключается исходная точка критики, которой Тэн подвергает умственное движение XVIII века; мерило, определяющее его отношение к столь прославленным литературным деятелям этой эпохи. Описывая войну разума против предания, Тэн следует общепринятому разделению умственного движения XVIII века на два периода, или, как выражается он, на две философские экспедиции. Направление первого похода, вождем которого был Вольтер, Тэн характеризует тем, что преданиям и предрассудкам французов-писатели стали противопоставлять предания и предрассудки других стран и времен, вследствие чего все эти предания утрачивали свои часы; древние учреждения лишались своего божественного характера, представлялись делом человека, плодом времени, результатом условного соглашения. Скептицизм начал проникать через все бреши. «Но анализ, разлагавший религиозные системы, политические учреждения и гражданские законы, друг другу противоречившие, не сводил их к нулю; в основании положительных религий, которые разум считал ложными, он находил естественную религию, которую признавал истинной; под оболочкою законодательных систем разум признавал общий естественный закон, начертанный в сердце людей и подразумеваемый разнообразными сводами законов.
На дне реторты, разлагавшей религию и общественные учреждения, всегда оставался известный осадок (résidu). В первом случае в осадке оказывалась истина, во втором — справедливость. Таков небольшой, но драгоценный остаток (reliquat) как бы слиток золота, сохраняемый преданием и очищенный разумом — осадок, который, мало-помалу освободившись от всякой примеси, один должен был собою представлять сущность религии и все нити, связывающие общество».
Вторая экспедиция состояла из двух армий; первую составляли энциклопедисты. Для характеристики их теорий Тэн выставляет на вид, в чем они отступили от идей Вольтера. Деизм старого вождя они относят теперь также к числу предрассудков. Представление Вольтера о мире, как о механизме, который заставляет предполагать механика, заменяется у них представлением о вечной материи, находящейся в вечном движении. Не разум организует материю, а материя производит из себя разум. Отсюда новое объяснение естественного закона. Источник его сам человек, но человек, каким он представляется глазам натуралиста, т.е. организованное тело, животное с его нуждами и страстями. Совпадая с естественным законом, эти страсти не только не искоренимы, но и вполне законны. Отсюда следует ниспровержение последних предрассудков. «Стыдливость», восклицает Дидеро, «подобно одежде — есть изобретение человека и условное чувство». Парадоксы Дидеро, замечает Тэн, по крайней мере, обезвреживаются (ont des correctifs) тем, что, описывая нравы, он задается целью моралиста, что под влиянием своей благородной натуры он верно расценивает и по достоинству распределяет различные влечения человеческого сердца, и что, определяя первобытные побуждения души, он рядом с эгоизмом отводит особое и более почетное место состраданию, милосердию и безрасчетному самоотвержению и самопожертвованию. Но после него являются другие, холодные и ограниченные люди, которые посредством математического метода идеологов конструируют нравственность в дух Гоббса, полагая в основание её одно только побуждение, самое простое и осязательное, грубое, почти механическое — инстинктивное стремление, заставляющее животное искать наслаждения и избегать боли. Добродетель — ничто иное, как предусмотрительный эгоизм. Итак, возвращение к естественному закону, т.е. к природе, и уничтожение общества — вот военный клич, провозглашаемый всем полчищем энциклопедистов. Такой же клич раздается с другой стороны — из лагеря Руссо и социалистов.
Характеристика Руссо, к которой Тэн возвращается несколько раз, представляет одну из самых удачных глав рассматриваемого сочинения. Эта характеристика, по нашему мнению, потому так удалась Тэну, что он лучше, чем кто-либо, сумел схватить тесную связь между личными качествами и недостатками Руссо и его учением. Руссо также отстаивал права естественного человека и естественный закон. Но вследствие громадного самолюбия и чудовищного эгоизма он брал свой идеал естественного человека не из дикого состояния, а из самого себя. Около этого центра вновь созидается спиритуалистическое воззрение на человека. Такое благородное создание не может быть механическим результатом различных физических органов.
В человек есть нечто более, чем одна материя; его духовная жизнь слагается не из одних чувственных ощущений; человек стоит выше животного; в нем есть свободная воля, следовательно, самобытный принцип или душа, отличная от тела и способная пережить тело. Эта душа повинуется внутреннему голосу, т.е. совести. Но если человек, как его понимает Руссо, вышел совершенным из рук Творца, то он перестал быть таковым по вине общества. Отсюда борьба против этого общества, еще более ожесточенная, чем прежде. До Руссо общественные и политические учреждения казались только неудобными и несогласными с требованиями разума; теперь же они представляются несправедливыми и развращающими; прежде они восстановляли против себя рассудок и страсти, — теперь, кроме того, они возмущают совесть и гордость. Отсюда гнев и серьезный, желчный тон, который заступает место прежней насмешки. Но характер борьбы изменяется еще вследствие другой причины. Как и некоторые другие литераторы XVIII века, Руссо вышел из простого народа; но он, кроме того, в душе плебей; ему неловко в салоне, он не может привыкнуть к благовоспитанному обществу; отсюда его вражда ко всему, что украшает это общество, к науке, искусству, театру, к цивилизации вообще. Но если, цивилизация дурна, то общество еще хуже, и два основания его — собственность и власть, — ничто иное, как насилие.
«Из-за теории сквозит личное чувство, раздражение плебея, бедного и озлобленного, который при своем входе в свет, нашел все места занятыми и не мог себе завоевать положения в обществе; который отмечает в своих „Признаниях“ (Confessions) день, когда он перестал страдать от голода, — за неимением лучшего живет со служанкой и отдает своих пятерых детей в воспитательный дом; который по очереди то лакей, то приказчик, бродяга, учитель или переписчик, вечно настороже и вечно принужден прибегать к разным уловкам для сохранения своей независимости, возмущенный контрастом своего положения и того, что он чувствует в душе, отделывающийся от чувства зависти лишь с помощью злословия и сохраняющий в глубине души старую горечь против богатых и счастливых этого мира, как будто они богаты и счастливы на ею счет и как будто их мнимое счастье было похищено у него» (Emile).
Тэн в своем очерк французской литературы остановился на Руссо, объявив, что не стоит знакомиться с его последователями, с этими enfants perdus du parti, [19] как он их называет. Все эти разнообразные нападения на современное общество, говорит он, приводят к одной цели — к ниспровержению всех основ существующего порядка. А за этим ниспровержением наступит, по мнению людей XVIII века, царство разума, новый миллениум, и разуму, разрушившему старый порядок, предоставится созидание нового.
Описав на основании «Общественного Договора» теорию построения нового государства, которую потом во время революции вздумали осуществить на практике, Тэн противополагает этой теории свой собственный взгляд на общество и государство. Он находит, что существенная ошибка политических теоретиков XVIII века заключалась в их убеждении, что разум одинаково присущ всем людям и что это равномерное распределение общего разума может быть принято за основной политический принцип. С помощью физиологии и психологии Тэн опровергает это положение. Физиология показывает, что то, что мы называем в человек разумом, есть только состояние известного непрочного равновесия, которое зависит от не менее непрочного состояния мозга, нервов, крови и желудка. «Возьмите, говорит Тэн, голодных женщин и пьяных мужчин около тысячи, сведите их вместе, пусть они разгорячатся от криков, от ожидания, пусть они заразят друг друга возрастающим возбуждением, и через несколько часов перед вами будет толпа опасных сумасшедших: 1789 год это показал». Обращаясь к психологии, Тэн замечает, что мельчайшее психическое явление, всякое ощущение, воспоминание, самое простое суждение — есть результат такой сложной механики, общий итог стольких миллионов независимо действующих сил, — что если стрелка нашего ума стоит приблизительно верно, то это случайность чтоб не сказать чудо. «Галлюцинация, бред, мономания, которые сторожат у нашей двери, всегда готовы овладеть нами. Собственно говоря, по своей природе человек близок к сумасшествию, точно так, как его тело всегда близко болезненному состоянию; здоровье нашего разума, как и здоровье наших органов, не более, как чистая удача или счастливая случайность». При такой сложности психических процессов, как шаток тот утонченный результат, который мы называем собственным разумом, и как часто у самого сильного ума под давлением гордости, энтузиазма или догматического упрямства идеи мало соответствуют действиям! Если же такова доля лучших умов, то что сказать о толпе, о народе, об умах вовсе не развитых? — «У крестьянина, у человека, занятого с детства ручной работой, не только отсутствует вся сеть высших понятий, но и те внутренние органы, которые могли бы ее сплести, не сформировались. Вследствие его привычки к свежему воздуху и к работе тела, у него, если он остается в бездействии, через четверть часа внимание ослабевает; общие фразы делают на него лишь впечатление неясного звука, умственные соображения, которые должны быть ими вызваны, не могут совершаться; он начинает дремать, если только какой-нибудь звучный голос не разбудит в нем, действуя на него заразительно, инстинктов тела и крови, личных страстей, глухой злобы, которые сдержаны внешней дисциплиной и всегда готовы разнуздаться. У полуграмотного, даже у человека, который считает себя развитым и читает газеты, принципы ничто иное, как почти всегда несоответствующие его развитию гости; они превышают его понимание; напрасно твердит он свои догматы, он не в состоянии измерить степень их значения (portée), он не может усмотреть их пределы, он забывает об их условности или присущих им ограничениях (restrictions), он ложно их применяет. Эти принципы подобны химическим составам, которые остаются безвредными в лаборатории и в руках химика, но которые делаются страшно опасными на улице, под ногами прохожих».
Философы XVIII века ошибались не только в том, что считали разум естественною принадлежностью человека, чем-то общим всем людям, — они не сознавали, что вообще в жизни человека и всего человечества роль разума очень ничтожна. «Явно ли то происходит или тайно, разум не более, как удобный подчиненный, домашний адвокат, вечно подкупленный, употребляемый настоящими хозяевами человека для защиты их дел; и если они при публик уступают ему первое место, то единственно ради приличия. Хозяева человека это — физический темперамент, телесные нужды, животный инстинкт, наследственные предрассудки, воображение, вообще какая-нибудь преобладающая страсть, большею частью личный интерес или же интерес семейный, сословный, или интерес партии. Мы впали бы в большую ошибку, если б подумали, что человек добр по своей природе, что он великодушен, сострадателен или, по крайней мере, мягок, сговорчив и охотно подчиняется общественному интересу или интересу ближнего. Во-первых, если не достоверно, что человек находится в кровном родстве с обезьяной, во всяком случае несомненно, что по своему строению он представляет животное очень близкое к обезьяне, плотоядное и хищное, бывшее когда-то людоедом, а впоследствии сделавшееся охотником и воином. Вот где основание крепко коренящихся в нем свирепости, зверства, диких, разрушительных инстинктов, к которым присоединяются, если он француз, веселость, смех и странная потребность выделывать прыжки и всякие шалости среди опустошений (dégâts), которые он производит.
Во-вторых, с первого появления своего человек очутился голый и беспомощный на неблагодарной земле, где добывать средства к пропитанию очень трудно, где под страхом смерти он принужден делать запасы и сбережения. Отсюда у него постоянная забота и неотвязчивая мысль, как бы приобрести, скопить и завладеть; скупость и жадность, — особенно в том сословии, которое, прикрепленное к земле, голодает в продолжение шестидесяти поколений для того, чтобы кормить другие классы, и постоянно протягивает крючковатые руки, чтобы захватить эту землю, на которой благодаря его труду произрастают плоды. Наконец, более тонкая умственная организация человека сделала из него с самых первых дней существо способное увлекаться воображением, у которого бесчисленные мечты развиваются сами собою в чудовищные химеры, расширяя и увеличивая без всякой меры его опасения, его надежды и его желания. Отсюда у него является чрезмерная чувствительность, внезапные приливы чувства и заразительных восторгов, порывы неудержимой страсти, эпидемии легковерия и подозрительности, одним словом — энтузиазм и паника, особенно если это француз, т.е. человек общительный и легко возбуждаемый, быстро поддающийся всякому внешнему толчку, лишенный того природного равновесия, которое поддерживается у его соседей германской или латинской расы флегматическим темпераментом и сосредоточением уединенной мысли».
Вследствие непонимания действительного человека и своего заблуждения относительно роли разума в человеческих делах, философы XVIII века, по Тэну, неверно определяли отношение народа к правительству. Во имя верховенства народа они отнимали у правительства всякий авторитет, всякую прерогативу, всякую инициативу, всякую силу и прочность. Правительство, по их мнению, ничто иное, как приказчик, как слуга народа. Против правительства и его органов должны быть приняты все меры предосторожности, должно быть вызвано всеобщее недоверие. Такой точки зрения Тэн противополагает свою собственную правительственную теорию. «Так как жизнью человека управляют грубые страсти, которые стихают в мирное время, подобно тому, как волны потока, сдерживаемые плотиной, протекают тихо, то главная забота должна заключаться в том, чтобы противопоставить страстям равную им по силе сдержку, тем более суровую, чем грознее эти страсти, даже деспотическую в случае нужды. Для того, чтобы направить и ограничить удары этой сдерживающей силы, употребляют разные механизмы, как-то: конституции, разделение властей, своды законов, суды, легальные формы. Но за всеми этими колесами всегда видна главная пружина, самое действительное орудие, а именно, жандарм, вооруженный против дикаря, разбойника и сумасшедшего, таящегося в каждом из нас, дремлющего или скованного, но всегда живого в тайник нашего сердца».
Заключающийся в третьей книге Тэна обзор идей и доктрин, господствовавших во французском обществе до революции и во время её, представляет собою не только мастерскую характеристику крупнейших явлений французской литературы XVIII века, но и увлекательное описание умственного строя и культурного склада самого общества Франции в XVIII веке. Мы имеем много классических характеристик великих писателей XVIII века, но у нас еще не было такого оригинального, полного и вместе с тем сжатого общего очерка умственного движения и доктрин, подготовивших французскую революцию. Блестящая литературная картина, нарисованная Тэном, поражает нас не только своими художественными достоинствами, меткостью и рельефностью изображения и искусною группировкой, но и оригинальностью оценки, которой автор подвергает писателей и произведения, относительно которых, по-видимому, давно уже установилась общепринятая оценка. Точка зрения, занятая Тэном при суждении о политических и общественных идеях, вызвавших или сопровождавших французскую революцию, многознаменательна, как свидетельство переворота в убеждениях, происшедшего в известной части современного французского общества. Критика, которой Тэн подвергает доктрины XVIII века, столько же беспощадна, сколько трезва и верна по отношению к упреку в исключительной рассудочности их и в отсутствии в них исторического смысла. Энтузиастов и фанатиков революции 1789 года Тэн встречает с охлаждающим их пыл замечанием: царство разума не наступило и не наступит потому, что разум не в одинаковой степени распределен между людьми и не он управляет человечеством. Сенсуалисты XVIII века были бы очень изумлены и огорчены, если бы узнали, что их последователь, тот, кто считает своим призванием продолжать начатое ими дело — извлек из их учения такое противоположное убеждение.
Но это замечательное изображение умственного движения во Франции в XVII и XVIII веках вызывает одно серьезное недоумение. «Рассуждающий разум», проявление которого во Франции так метко изображено Тэном, не местное только явление и не ограничено пределами только двух веков. Корни его нужно искать в глубоком прошлом и проявление его можно проследить во всей Западной Европе. Явление, описанное Тоном, есть частное проявление более обширного факта в истории европейской культуры — рационализма.
Вся культура XVIII века, как известно, отмечена рационализмом, т.е. преобладанием разума в объяснении и оценке внутренних и внешних явлений человеческой жизни и вытекающим отсюда рассудочным настроением европейского общества. Влияние рационализма было чрезвычайно разнообразно, и его последствия далеко не одинаково плодотворны. Рационализм прежде всего выражался в философском и научном стремлении отыскать в явлениях их разумную сторону, проследить в них проявления мирового разума и определить долю участия разума в продуктах духовной деятельности человека — в религии, языке, праве, этике и в политике. Это стремление, овладевая наукою, стало выражаться в теориях, рассматривавших и объяснявших все эти явления исключительно как продукты разума, или, точнее, рассудка, представлявших, например, язык — собранием звуков, принятых известною группою людей по взаимному соглашению для употребления в определенном смысле; религию — системами, которые вымышлены жрецами для известных целей; государство — договором, заключенным между собою первобытными людьми в практических видах. Развиваясь и проникая в массы, рационализм, конечно, мельчал и принял оттенок поверхностной рассудочности, в которой, главным образом, выразилась односторонность культуры XVIII века.
Другое практическое последствие рационализма заключалось в том, что он привел к привычке критически относиться к конкретным явлениям, подвергать их оценке с точки зрения рассудка, или просто так называемого здравого смысла, относиться скептически ко всему, что им противоречиво, отвергать и требовать уничтожения всего того, что не вытекало непосредственно из разума. Наконец, в связи с этим находится третье, самое важное стремление, вытекавшее из рационализма, — потребность в реформах. Эта потребность то принимала более практический характер, выражаясь в требовании, чтобы конкретные продукты духовной деятельности человека — господствовавшая религия, исторически сложившееся право, государство — были преобразованы на основании положении, выведенных из общечеловеческого разума — а с другой стороны, эта потребность в реформах порождала чисто теоретические системы, попытки построить на основании отвлеченного разума идеальные, универсальные типы этих явлений, которые противополагались конкретным, проявившимся в истории фактам. Отсюда возникла так называемая, разумная или естественная религия — деизм; к этой же категории явлений относится попытка создать общечеловеческий искусственный язык и различные политические схемы, начерченные для отвлеченного, общечеловеческого государства.
Таким образом, рационализм привел к очень различным, по своим достоинствам, результатам. С одной стороны, он знаменовал собою и обусловливал прогресс цивилизации, породил системы и принципы, которыми всегда будет гордиться история человечества, с другой — он дал одностороннюю окраску просвещению XVIII века и вызвал много теоретических заблуждений и практических недоразумений, повлекших за собою значительные бедствия.
Рационализм, в обширном смысле этого понятия, основан на потребности объяснять высшие интересы человека — религию, мораль, право, государство — посредством чистого разума, проверять их его аксиомами, согласовать их с его требованиями. Оттого причиною или основанием рационализма нужно признать разум, и история рационализма совпадает с развитием разума среди европейских народов. Лишь только осело брожение, вызванное переселением народов, лишь только был заложен первый фундамент для новой политической жизни, как проявились еще в XII веке первые зачатки рационализма. Что такое вся схоластика, которая может указать в своих рядах несколько самых крупных мыслителей, как не попытка согласовать, или по крайней мере примирить с разумом религиозную систему, построенную католицизмом? И кто, как не тот же разум, был главным союзником реформации? — А когда прошел религиозный кризис, и половина западной Европы отложилась от католичества, то внутри протестантизма продолжалась та схоластическая работа мысли, которая пыталась согласить и примирить разум с теми религиозными догматами, которые были извлечены реформой без посредства церковного предания из нового завета.
Число этих догматов становилось все меньше; стенка, отделявшая откровение от человеческого разума, становилась все тоньше, и некоторые из сект английского протестантизма, пережившего наиболее полный и логически последовательный процесс развития, уже пришли почти к отождествлению «внутреннего голоса», как источника откровения, с требованиями разума. Отсюда был один только шаг к признанию разума источником религии и к замене откровения разумом, т.е. к деизму и естественной религии.
За все это время продолжался анализ принципов этики и права, а также положительных форм государства с точки зрения естественного разума, который был провозглашен еще стоиками высшим авторитетом в вопросах права и служил руководящей нитью для римских юристов. В продолжение средневекового периода естественный разум служил главным образом для объяснения и подтверждения положительных данных, т.е. догматов, выработанных церковью, и политических форм, выработанных историей; но в XVII век отношение разума к факту изменяется. Окрепнувший под влиянием ренессанса и реформации, разум не удовлетворяется более своим прежним служебным положением и провозглашает себя самостоятельным верховным источником истины; оттого XVII век становится эпохой развития специальной области разума — философии.
Начало нового периода в истории разума было ознаменовано и вызвано провозглашением знаменитого Декартовского принципа — cogito, ergo sum, — «я мыслю, следовательно, существую». Усомнившись в достоверности всех своих понятий и убеждений, заимствованных из предания или воспитания, французский философ успокоился на приведенном положении. Оно было несомненно, и потому оно могло быть положено в основание философской дедукции, из которой вытекал ряд понятий и идей, на этот раз признанных достоверными, так как они покоились на таком же основании. Но, провозглашая мысль человека, его самосознание — исходною точкою истины, а логическое сцепление мыслей единственным средством к выработке достоверных истин, и признавая все остальные понятия истинами настолько, насколько они могли быть выведены этим путем, Декарт устанавливал господство разума на всем обширном пространстве духовной деятельности человека, подчинял отвлеченному разуму все потребности и функции духа и все источники познаний, и вручал разуму монополию истины.
Поэтому начало рационализма в собственном смысле, т.е. исключительное преобладание и одностороннее развитие разумного, рассудочного элемента в истории просвещения и европейской культуры, нужно вести с Декарта. Подобно тому, как эпоху реформационную начинают с того момента, когда Лютер прибил свои богословские тезисы к дверям виттенбергской церкви, так эпоху рационализма, составляющую вторую половину новой истории, — так как рационализм представляет главный движущий элемент этого периода, — нужно начинать с 1637 года, когда появилось сочинение Декарта: «Discours de là méthode».
Действительно, в этом сочинении уже заключаются, как в зародыше, все направления и притязания рационализма, впоследствии так широко и, можно прибавить, так мелко разлившегося. Декартовский способ выводить существование Бога из той идеи о Боге, которую человек находит в себе, представлял достаточно твердое основание для самостоятельного развития естественной религии или деизма. А в учении Декарта о двух субстанциях — дух и материи — предначертан весь ход развития рационалистического просвещения. Если сущность материи, т.е. всех физических явлений, составляет протяжение, то из этого следует, что всем миром этих явлений, не исключая и жизни человеческого тела, управляют одни математические и механические законы. А если сущность духа есть мысль, то весь мир духовных явлений подчинен мышлению, разуму и законам логики.
Таким образом рационализм древнее и почтеннее по своему происхождению, чем то умственное движение или настроение, которое Тэн разумеет под выражением l’esprit classique.
Но, делая эту оговорку об исконности и общем значении рационализма, мы отнюдь не имеем в виду умалить цену разрушительной критики «рассуждающего разума», которую находим у Тэна. Недостатки рационалистического метода схвачены и очерчены Тэном с поразительной ясностью и силой: «Следовать во всяком изыскании с полным доверием, без всякой предосторожности и каких-либо оговорок математическому методу; извлекать, определять, изолировать несколько понятий очень простых и очень общих; затем, оставляя в стороне опыт, сравнивать, сочетать их и из искусственного результата, таким способом полученного, выводить посредством чистого рассуждения все последствия, в нем заключающиеся, таков естественный способ действия «классического духа». У самого Декарта, отца философского рационализма, мы встречаем уже это безусловное доверие к возможности приложить этот математический способ рассуждения ко всем областям знания: «Эти длинные цепи доводов, очень простых и легких, которыми геометры привыкли пользоваться для самых трудных своих теорем, послужили мне поводом вообразить, что все, что может быть предметом человеческого знания, таким же способом связано». А последователь Декарта Мальбранш уже говорит: «чтобы доискаться истины — достаточно отнестись внимательно к тем ясным идеям, которые всякий находит в самом себе».
Согласно с этим Кондильяк объявляет, что можно разобраться в составных элементах нашей мысли путем, аналогическим тройному правилу. К чему это повело, об этом можно судить по тому, что, по свидетельству Кондорсе, политики угораздились вывести все права человека из простой истины, что человек существо чувствительное, способное рассуждать и усваивать себе нравственные истины. А Сиез выдает политику за науку, которую он усвоил себе сразу, одним напряжением своего ума, на подобие тому, как Декарт изобрел аналитическую геометрию.
Результатом этого метода, этого приложения отвлеченного мышления к положительным знаниям, добытым естественными науками — было зарождение революционной доктрины. Она была принята, как откровение, и в силу этого выступила с притязанием на владычество миром. Превосходно формулирует Тэн эту революционную доктрину. Приближаясь к 1789 году, люди стали верить в наступление «века просвещения», «эпохи разума»; что перед этим род человеческий находился в детстве, теперь он достиг совершеннолетия. Наконец на свете объявилась истина и в первый раз наступит её царство на земле. Её право безусловно, ибо она есть истина. Она должна властвовать над всеми, ибо во всей природе она универсальна. Этими двумя догмами своими философия XVIII века уподобляется религии, пуританизму XVII века, магометанству VII века. Перед нами тот же порыв веры, надежды и энтузиазму тот же дух пропаганды и властолюбия, та же несговорчивость и та же нетерпимость, то же честолюбие пересоздать человека, и переделать всю жизнь человеческую по модели, наперед установленной. У новой доктрины свои учителя, свои догмы, свои народный катехизис, свои фанатики, свои инквизиторы, свои мученики. Новая доктрина поднимает свой голос так же высоко, как предшествующие ей религии в качестве законной владычицы, которой диктатура принадлежит по рождению и сопротивляться которой преступление или безумие. Но она отличается от них тем, что налагает свое иго не во имя Бога, а во имя разума.
Таков революционный дух и его доктрина. Но историку XVIII века недостаточно охарактеризовать господствовавшую доктрину и указать на её заблуждения: ему нужно объяснять, почему она имела такой успех в обществе. Эту задачу Тон исполняет в четвертой книге, где он рассматривает распространение доктрины в литературе, среди аристократии и, наконец, среди буржуазии или третьего сословия.
При этом исследовании Тэном опять устанавливается тесная связь между общественным строем французского народа и его духовным настроением; опять выставляется на вид роль салонов. Он показывает, как, благодаря господству светского общества, философы пишут исключительно для него, как они в виду этой цели вырабатывают популярный метод изложения и придают своим сочинениям ту пикантность и веселость, которые составляют отличительную черту французской литературы XVIII века. Эти свойства литературных произведений обеспечивают им верный успех среди светского общества, а авторам доставляют доступ в салоны, которые вследствие этого еще более подчиняются влиянию литературы.
Но всего этого недостаточно для того, чтобы объяснить успех самой доктрины, распространяемой философами среди привилегированных классов. В Англии подобные идеи были также некоторое время очень популярны среди высшего общества, но последнее очень скоро отвернулось от них. Английская аристократия, — говорит Тэн, — стала консервативной, потому что была практически занята. Французская аристократия увлеклась новыми идеями, потому что была оторвана правительством от соответствующей ей практической деятельности; скептическая философия была необходима в салонах потому, что без неё беседа была бы вялая и бесцветная. К скептицизму скоро присоединилось фрондёрство, которое всегда развивается там, где обществу приходится оставаться безучастным зрителем правительственных действии.
Удачно подобранными фактами и цитатами из литературы XVIII века Тэн набрасывает наглядную картину постепенно развивавшейся оппозиции среди французской аристократии в области религии и в области политической.
Двумя сторонами своей доктрины Руссо стал для этой молодежи носителем революционной заразы — своим учением о человек и обществе и своей политической доктриной. Проповедуя, что человек вышел чист и непорочен из рук природы, и что человек был бы счастлив, если бы не покинул естественного состояния, так как все зло происходило от общества, Руссо призывал общество к саморазрушению и внушил ему софизм, что его разрушение необходимо и достаточно для всеобщего благоденствия. Но на ряду с этой анархической доктриной Руссо выставил политическую программу, которая стала обильным источником революционного деспотизма. Эту программу представляет «Общественный договор» Руссо. Как известно, Руссо признавал нормальным лишь такое государство, которое основано на взаимном договоре вступивших в него членов, в силу которого всякий вступивший отдает себя безусловно во власть государства с тем, чтобы быть в равной с другими доле участником в государственной власти. С сокрушающей логикой Тэн выводит последствия этого политического софизма.
В тот момент, когда я, вступая в общество, ничего не оставляю за собою, — я этим самым отрекаюсь от своего имущества, от своих детей, от своей церкви, от своих убеждении. Я перестаю быть собственником, отцом, христианином, философом. Вместо меня во все эти функции вступает государство. На место моей воли становится общественная воля, т.е. в теории изменчивый произвол большинства, подсчитанного поголовно, фактически же суровый произвол собрания, партии, личности, обладающей общественною властью. На основании этого принципа безумие превзойдет все пределы. Уже в первый год Грегуар говорит с трибуны Учредительного собрания: «Мы могли бы, если бы захотели, изменить религию, по мы этого не хотим». Немного позднее, этого захотят, это сделают, введут религию д’Ольбаха, затем религию Руссо и дерзнут пойти еще дальше. Во имя разума, который олицетворяется и истолковывается одним лишь государством, начнут разделывать и переделывать сообразно с разумом и с одним только разумом все обычаи, обряды, праздники, костюмы, эру, календарь, вес, меры, названия времен года, месяцев, дней, мест, памятников, собственные и фамильные имена, формы вежливости, тон речей, способ кланяться и встречаться, разговаривать и писать до такой степени, что француз, как некогда пуританин и квакер, преобразованный в самом своем существе, будет проявлять в мельчайших действиях и внешностях господство всемощного принципа, его переродившего и неподатливой логики, которые им управляют. Это будет завершением и полным торжеством классического разума. Водворившись в узких мозгах, неспособных совместить одновременно двух идей, этот разум превратится в холодную и бешеную мономанию, ожесточенно устремленную к уничтожению прошлого, которое оно ненавидит, и к установлению миллениума, за которым гонится, и все это во имя воображаемого договора, анархического и вместе с тем деспотического, который разнуздывает бунт и оправдывает диктатуру, который походит то на вакханалию умалишенных, то на монастырь спартанцев; место человека живого, прочного, постепенно образованного историей, занимает импровизированный автомат, который сам разрушится, как только внешняя и механическая сила, его выставившая, перестанет его поддерживать».
Немудрено, что, восприняв это учение, влиятельный класс адвокатов и стряпчих, к которым принадлежали и нотариусы, имевшие свои конторы не только в городах, но и в местечках, перешли на сторону революции задолго до её официального провозглашения. Еще в 1733 году парижский адвокат Барбье отмечает в своем дневнике, что «ни отец его ни он никогда не принимали участия во всех этих шумных демонстрациях» и прибавляет, что, по его мнению, «нужно с честью исполнять свою обязанность, не вмешиваясь в государственные дела, относительно которых не имеешь ни власти ни полномочии».
Но падение правительственного авторитета и громадный успех Руссо — эти два одновременных события произвели полный переворот в настроении третьего штата. Во время путешествия Артура Юнга по Франции вся провинция мечтает о химерических переворотах. Когда Юнг, чтобы себе выяснить их пожелания, начинает предлагать своим собеседникам в пример английскую конституцию, они улыбаются; «этого им слишком мало; она предоставляет недостаточно свободы, а главное — она не сообразна с принципами».
Конечно, не одна эта доктрина вызвала революцию.
Сам Тэн на это указывает, замечая, что философия XVIII века зародилась в Англии и семена её были перенесены во Францию, но на своей родине эта философия не нашла благоприятной почвы для своего развития, во Франции же роскошно разрослась. И не один «классический дух» был причиной революции. Были и другие причины, ей содействовавшие. Сам Тэн указывает хотя и мимоходом, поглощенный своей главной задачей, на разлад Парижского парламента со двором, постоянно возобновлявшийся, как на одну из мин, обусловливавших окончательный общий взрыв. Разлад этот вызывался расколом в французской церкви, ссорой между партией иезуитской и янсенистами. Последние, строгие моралисты, осуждали моральные поблажки, допускавшиеся иезуитскими духовниками — их «пробабилизм» в этике. В то же время янсенисты были горячими приверженцами «свободы галликанской церкви», т.е. некоторой независимости национальной французской церкви от папы, иезуиты же были приверженцами папской власти, ультрамонтанства. Двор находился под влиянием иезуитов, Парижский парламент стоял на стороне янсенистов и принимал подчас крутые меры против высшего духовенства, преследовавшего янсенистских священников — меры, которые кассировались правительством. Население Парижа также стояло на стороне янсенистов и парламента и в течение всей первой половины XVIII века янсенистский вопрос был источником смут и революционного духа для парижского населения. [20]
Но разлад между Парламентом и Двором, т.е. правительством, имел еще другой, более общий источник, о котором Тэн не упоминает. При феодальной монархии Парижский парламент был судебным, административным и законодательным учреждением и в теории, и в своих притязаниях сохранил это значение до конца XVIII века. Но новая, абсолютная монархия, установившаяся со времени Ришелье, ввела новую, охватившую всю провинцию, централизованную администрацию через интендантов, не подчиненную Парламенту. Отсюда множество столкновений и неудовольствий со стороны Парламента. А по мере развития администрации и нужд государства усложнялась и учащалась законодательная деятельность монархического правительства. На Парламенте лежала обязанность объявления (регистрации) новых законов, связанная с правом до регистрации представлять королю свои соображения или возражения по поводу нового закона. В XVII век Парижский парламент, а за ним и провинциальные, стал пользоваться этим для присвоения себе как бы права законодательного veto. Отсюда частые и ожесточенные столкновения, которые даже привели при Людовик XV к временному упразднению Парламента. В борьбе с правительством парламенты пытались между собою сближаться, образовать как бы одно общее законодательное учреждение, нечто в роде общего представительства, взамен не собиравшихся Генеральных штатов. Учение янсенистов, что собор выше папы, усвоенное частью французской магистратуры, повлияло в этих кругах и на политические представления и содействовало распространению идеи, что воля народа или его представительства должна иметь преобладающее значение в государстве.
Идея народовластия не была новостью для французов XVIII века. С ней издавна были знакомы французские легисты. На этом понятии римские юристы основывали императорскую власть и с римским правом оно вошло в политическое сознание всех европейских народов. Средневековые богословы строили на нем свое объяснение происхождения государства и пользовались им, чтобы доказывать превосходство церкви, по её происхождению, над государством. Эпоха реформации снова выдвинула на первый план это понятие. Французские гугеноты, жестоко преследуемые королями, усвоили его себе, под влиянием Женевы придали ему республиканский смысл и выставили из своей среды целый ряд монархо-махов, т.е. противников королевской власти. Замечательно, что и многие католические публицисты, в особенности иезуиты, для борьбы с еретическими королями развивали идею народовластия в республиканском смысле. Во всяком случае это понятие в его средневековом толковании держалось в французских церковных школах до конца XVIII века. Таким образом отживавшее средневековое представление о происхождении государственной власти дожило до появления на свет «Общественного договора», который сделал понятие о народовластии в самом радикальном его смысле популярнейшей идеей Франции.
Но что же на самом деле соответствовало во Франции понятию о верховном народе? Где тот народ, которому в силу общественного договора должна была быть вручена во Франции верховная власть? Как принял этот народ манифест о своем воцарении? Заканчивая свое описание постепенного проникновения новой доктрины чрез верхние слои в самую толщу народа, Тэн рисует нам следующую картину: «В бельэтаже здания, в чудных золоченых покоях, новые идеи служили только для освещения салона, были бенгальскими огнями для потехи; ими забавлялись; среди смеха их бросали из окон. Подхваченные в антресолях и нижнем этаже, разнесенные по лавкам, магазинам и кабинетам дельцов, они попали на воспламеняющийся материал, на связки дров, давно заготовленные, и вот разгорается большой огонь, отражается как бы начало пожара, по крайней мере из труб идет большой дым и сквозь стекла виднеется красное пламя. Нет, говорят обитатели бельэтажа, они не стали бы поджигать дом. Они — жильцы его, как и мы. Это горит солома или это огни камина; чтобы их потушить, довольно ведра холодной воды, и они служат к очистке труб, к выжиганию застарелой сажи».
«Берегитесь: в подвалах дома, под обширными и глубокими сводами, поддерживающими его — находится пороховой погреб!»
Переходя к обитателям нижних этажей Тэн объясняет экономическими причинами переворот, происшедший в настроении третьего сословия, которое прежде отличалось узостью воззрений и было поглощено исключительно профессиональными интересами. Третье сословие быстро богатело, а потому приходило все чаще в соприкосновение с правительством, которое нуждалось в деньгах для своих поставок и разных предприятий, особенно для пополнения своего бюджета займами.
Дурное финансовое управление, постоянная денежная неисправность правительства, дефицит и частые банкротства, причиняя громадные убытки буржуазии, вызвали в ней, наконец, недоверие и неудовольствие. В тоже время буржуазия перенимала нравы и образ жизни аристократии; но, если различие между классами, таким образом, по внешнему виду и стушевывалось, привилегии оставались в силе по-прежнему, вызывая раздражение и вражду буржуазии против старого порядка.
На такую-то почву пали идеи Руссо. Тэн метко подмечает те черты писателя, которые должны были вызвать особую симпатию «плебеев» к этому «плебею». Под его влиянием третье сословие стало отождествлять себя с народом, уверовало в свое неотъемлемое право на верховную власть и в свою очередь заявило, подобно Людовику XIV, — «государство, это я!» Такое властолюбие сопровождалось не только экзальтацией и утопическими бреднями, но и большим невежеством. Очень поучительны у Тэна те страницы, где он описывает, какого рода образование давали тогдашние школы и университеты, из которых ученики не выносили ничего, кроме латинских обрывков (bribes), и где он показывает, как пренебрежение к преподаванию истории предрасполагало общество ко всяким отвлеченным революционным теориям.
К концу века общество салонов представляет «странное зрелище аристократии, пропитанной гуманитарными и радикальными максимами, придворных — враждебных Двору, привилегированных — содействующих уничтожению привилегий».
Тэн приводит свидетельство Лакретеля о том, что в его гимназии в течение восьмилетних занятий в его присутствии ни одного раза не было упомянуто имя Генриха IV и в 17 лет он еще не знал, когда и по какому случаю династия Бурбонов заняла престол. На юридических факультетах ученики наслушивались отвлеченного права или ничему не учились. В Париже слушателей нет: профессора читают перед переписчиками, которые продают записанные ими лекции. Если бы кто-либо стал сам посещать лекции и записывать их, он заслужил бы упреки, что отнимает у переписчиков их заработок. В Бурже можно добиться диплома в течение шести месяцев.
Общим учителем правоведения для всей этой молодежи стал Руссо. Когда сыновья одного судьи явились на первую лекцию права к адъюнкт-профессору Саресту, он рекомендовал им в виде руководства «Общественный договор». Тезисы этой книги приводились, по словам одного современника, как догматы всей этой громадной толпой, наполнявшей «Большой зал» судебных учреждений, состоявшей из членов цеха Базоши (канцеляристы и пристава судебного ведомства), молодых адвокатов и мелкой интеллигенции, поставлявшей публицистов нового пошиба.
Нет более вопиющего противоречия между идеей и действительностью, как различие между вымышленным народом «Общественного договора» Руссо и живым народом, которому Марат читает и объясняет его на площадях Парижа. Это различие проявляется в язык в двойственности выражений — нация и народ (peuple). Это различие обусловливает собою и архитектонику книги Тэна о «старом порядке». Посвятив изображению жизни и культуре верхних слоев французской нации первые четыре книги своего сочинения, Тэн дополняет их пятой книгой, посвященной народу — le peuple.
«Бедность народа» — так озаглавливает Тэн ту картину, которую он развертывает перед читателем в первой главе новой книги. Он полагает, что к концу царствования Людовика XIV, т.е. в начале XVIII века, от бедности и голода погибло около одной трети всего населения, т.е. 6 миллионов, и что затем оно в течение 40 лет не увеличивалось. Народ, говорит он, можно сравнить с человеком, который шел через пруд, при чем вода была ему уже по горло; при малейшем понижении дна, при малейшем волнении воды он теряет опору, он погружается в воду и задыхается. Тщетно изощряются милосердие старых времен и гуманность нового времени, чтоб прийти ему на помощь; вода слишком высока, для спасения нужно было бы, чтобы понизился её уровень, и чтобы она могла найти свободный сток.
Главной причиной этого бедственного положения народа. Тэн считает подать, которая потому так тяжела, что её не несли или почти не несли привилегированные классы. Постоянный контраст между привилегированными и не привилегированными, который проведен через всю книгу, и здесь послужил Тэну фоном картины. Имея в виду одну только главную причину, Тэн слишком мало говорит о других, — о феодальном праве, сковывавшем земледелие и сельское хозяйство, о плохом состоянии путей сообщения, о фискальных мерах, затруднявших подвоз хлеба, так что при первом местном неурожае появлялся голод для беднейшей части населения и т. д.
Факты, характеризующие тогдашнюю фискальную систему во Франции, сгруппированы у Тэна, по обыкновению, очень рельефно. Любопытны цифровые данные, приводимые им для того, чтоб показать, какая громадная доля чистого дохода с поземельной собственности непривилегированных классов поглощалась государством. В общем расчете правительство брало 53% с чистого дохода; к этому нужно присоединить 28%, которые получали бывшие представители местной власти в средневековом периоде; из них половину брала церковь в виде десятины, а другая половина шла в пользу сеньора, если на земле лежали феодальные повинности.
Что касается до налога на труд, то он доходил иногда почти до 8% годового заработка рабочего, так как поденщик, получавший 10 су в день, платил от 8 до 10 ливров [21] подати. Тяжесть государственного налога становится во Франции еще более невыносимой вследствие дурного устройства «фискальной машины». Как известно, главная государственная подать во Франции была непостоянна, так как определялась вперед только её общая сумма; распределялась же она различно по округам, селениям и отдельным плательщикам, причем господствовал большой произвол. Другое неудобство заключалось в том, что сборщики податей избирались по очереди из народа и своим имуществом отвечали за полное поступление податей, так что ежегодно во Франции около 200 тысяч человек теряли половину своего рабочего времени; тюрьмы были переполнены сборщиками, не успевшими набрать возложенную на их округ сумму, и односельчане отчуждались друг от друга взаимным недоверием и враждой. Не менее разорительны и ненавистны были во Франции косвенные налоги на соль и на вино, которые отдавались на откуп, причем, например, правительство определяло не только цены на соль, но и количество её, какое должно было покупать каждое хозяйство. Вследствие этого, по удачному выражению Тэна, когти фиска, которые обыкновенно бывают незаметны в области косвенных податей, во Франции были так же явны и ощутительны, как и в деле прямых налогов.
Однако, после всего, что сказал Тэн о бедственном положении народа, читатель несколько удивлен, когда в конце той же главы узнает, что в течение всего XVIII века крестьяне приобретают землю. Сам автор, по-видимому, этим изумлен. «Как могло это случиться при таких бедствиях?» восклицает он. «Факт этот почти невероятен, а между тем он не подлежит сомнению». Уже в 1760 году четвертая часть земли в королевстве перешла в руки сельского рабочего класса. В 1789 году Юнг полагает, что мелкая поземельная собственность составляла 1/3 государства. Это то же отношение, которое теперь существует, — замечает Тэн: — революция не увеличила количество земель, принадлежавших мелким собственникам, так как от неё главным образом выиграла средняя собственность.
Для устранения указанного противоречия Тэн прибегает к характеристике французского крестьянина, описывает его умеренность, его настойчивость, его выносливость, скрытность, его наследственную страсть к собственности и к земле. Один и тот же факт, известный рассказ Руссо о крестьянине, который угостил его хлебом, ветчиной и вином, спрятанными в подполье от глаза сборщика, служит Тэну для двух целей: он приводит его для характеристики угнетенного положения крестьян; затем говорит: «этот крестьянин имел, конечно, еще более потаенное место, чем та яма, откуда он достал хлеб и вино; — деньжонки, спрятанные в шерстяном чулке или в горшке, еще лучше ускользают от розыска сборщиков».
Тэну нужно поставить в заслугу то, что он подметил существенное различие между экономическим положением французских крестьян в конце царствования Людовика XIV и перед революцией. У Мишле, например, положение их в конце XVIII века так же безнадежно, как и в начале этого века. Если Тэн не объяснил, почему положение крестьян улучшилось, то это не его вина. В 1870-х годах, когда он писал, вопрос о крестьянском землевладении в XVIII веке и об улучшении крестьянского быта к концу этого века был мало разработан.
Господствующей чертой крестьянского быта все же, однако, оставалась бедность, и изображение этой бедности представляло собою эффектную антитезу описанию Версаля и салонного быта.
Такая антитеза проявляется с неменьшей резкостью и со стороны духовной культуры.
Познакомивши читателя с положением народной массы, Тэн описывает её умственное состояние и приходит к следующему заключению: «Возьмите самый грубый мозг современного нам крестьянина и отнимите у него все идеи, которые в течение 80 лет входят в него всякими путями: через первоначальную школу, устроенную в каждом селе, через солдат, возвращающихся на родину после семилетней службы, через изумительное размножение книг, газет, железных дорог, путешествий и всякого рода сообщений — и вы будете иметь понятие о том, чем был простой французский народ до 1789 года».
Меткими фактами изображает Тэн склонность к жестокости, суеверие, невежество, легковерие массы, её представление о короле и его всемогуществе, о его намерении облагодетельствовать народ, чему мешают другие классы — все это черты, которые встречаются в простом народ всех стран. Даже восставая против правительства, народ полагает, что исполняет волю короля. «В то время, когда избирали депутатов, в Провансе разнесся слух, что лучший из королей желает, чтобы всё и все были равны, чтобы не было более ни епископов, ни сеньоров, ни десятины, ни феодальных прав; чтобы не было более ни титулов, ни отличий: что народ будет избавлен от всяких налогов, что впредь только два высшие класса будут нести все государственные подати. Бывало еще лучше: когда грабили кассу сборщика податей в Бриньоле, это делалось при криках: да здравствует король! Крестьяне постоянно объявляют, что он предается грабежу и разрушению согласно королевской воле. Позднее, в Оверне крестьяне, поджигая замки, уверяли, что им жаль так поступать с такими хорошими господами, но что они принуждены к этому прямым приказом, они знают, что его Величество так хочет…» «Да как и могло быть иначе! Прежде чем укорениться в их мозгу, всякая мысль должна сделаться легендой, хотя бы нелепой, но простой, приноровленной к их пониманию, их способностям, их страхам и надеждам. Посаженная в этой невозделанной, но плодородной почве, легенда принимается, видоизменяется, разрастается в дикие наросты, темную листву и ядовитые плоды. Все предметы представляются (крестьянину) в ложном свете; он похож на ребенка, который при всяком повороте дороги видит в каждом кусте, в каждом дереве — ужасное привидение».
Поразительно легковерие французских крестьян в изолированных провинциях. Подобно тому, как при Петре Великом на Волге поверили слуху, что правительство будет забирать всех девок, чтоб вывезти их заграницу и выдать там за иностранцев, вследствие чего стали торопиться повенчать их, — посещение английским путешественником Юнгом Кагора вызвало слух, что ему поручено королевой подвести под город мины и взорвать его, а затем отправить на галеры всех жителей, которые останутся живы.
Чем сильнее воображение простого народа, тем слабее его понимание. «Хлеба и отмены всех повинностей и сборов» — вот общий клич, и с этим кличем толпа разоряет хлебные же магазины, грабит рынок, вешает хлебников, и вскоре оказывается недостаток в хлебе. Архивы сеньоров, все бумаги и документы сжигаются крестьянами, и вслед затем они не в состоянии доказать своего права владения на общинную землю. «Выпущенный на свободу зверь все разрушает, при чем наносит раны самому себе и с ревом наталкивается на преграду, которую нужно было обойти».
Причины такого бессмысленного неистовства толпы Тэн видит в том, что у простого народа не оказалось достойных вождей, а без организации всякая толпа ничто иное, как стадо. В массах французского народа давно укоренилось неизлечимое недоверие относительно всех его естественных вождей, к вельможам, богачам, ко всем лицам, облеченным властью и авторитетом. Но когда восставшая толпа отвергла своих естественных вождей, она поневоле должна была подчиниться другим. В 1789 году вожди готовы, «ибо за тем народом, который терпит, стоит народ, который терпит еще более, который постоянно находится в возмущении; всегда подавленный, преследуемый и вместе с тем презираемый — он ждет лишь случая, чтоб выйти из своей норы и разнуздаться на просторе» — и вот Тэн выводит на свет как бы «озаренными молнией, предвестницей бури» все нездоровые элементы, которые таит всякое общество и которых особенно много породил старый порядок во Франции благодаря разным искусственным преградам и жестоким запретительным мерам, — это: браконьеры, контрабандисты, бродяги, нищие-разбойники и прочее. Народная масса, так враждебно настроенная к существующему порядку, могла сдерживаться, заключает Тэн, только вооруженной силой, т.е. с помощью войска, но французское войско, в свою очередь, разделенное на два слоя — привилегированных и непривилегированных, в 1789 году было близко к разложению. Как скоро этот оплот будет снесен потоком, наводнение зальет всю Францию, как гладкую равнину. — «У других народов в таких случаях встречались преграды: находились возвышенные местности, центры для убежища, какая-нибудь древняя ограда, где среди общего смятения часть населения находила себе приют. Здесь же все разрознено, все разъединены и враждебны друг другу. Утопия теоретиков осуществилась: дикое состояние человека возвращается, это — дело монархической централизации, которая постоянно разъединяла интересы для того, чтобы свободнее властвовать. В результате осталось облако отдельных человеческих пылинок, которые кружатся и с неудержимой силой все сбиваются в одну массу от слепой силы ветра».
Читатель Тэна уже знает, откуда дует эта слепая сила ветра; но, чтобы окончательно убедить его в этом, автор указывает на то, как составлялись cahiers третьего сословия; как l’homme de loi, мелкий сельский стряпчий, завистник и теоретик, овладевает крестьянином. В этом заключается опасный симптом, указывающий на путь, которым пойдет революция: l’homme du peuple est endoctriné par l’avocat, l’homme à pique se laisse mêner par l’homme à phrases. [22]
Мы приблизились к венцу стройного здания, которое возвел на наших глазах историк. Связь между различными частями здания установлена.
Доктрина, возникшая и развившаяся в салонах среди привилегированных классов, достигла народной массы, где она произведет взрыв. Завещание, которое оставила после себя королевская Франция, — или мораль, которую наш историк извлек из изучения старого порядка, заключается в следующем: «Таким образом, несколько миллионов диких пущены на свободу несколькими тысячами болтунов, и политика, обсуждаемая в кофейнях, находит себе истолкователей и исполнителей в уличной толпе. С одной стороны грубая сила поступает на служение радикальному догмату; с другой стороны, радикальный догмат отдает себя в распоряжение грубой силе. И вот, в разрушенной Франции остаются только эти две власти на развалинах всего остального».
Предшествующий обзор книги Тэна о «Старом порядке» показывает, что никогда еще генетический метод, внесенный Токвилем в объяснение революции 1789 года, не был так широко и плодотворно применен к этому событию, как в книге Тэна. Строение старого общества, его настроение, господствовавшие в обществе идеи, воспитание и направление ума французов XVIII века, все это изображено и оценено по отношению к его влиянию на следующую эпоху. Пред нами наперед очерчены деятели грядущей революции: гуманизированная и ослабевшая власть, салонная аристократия, интеллигент, воспитанный на идеях XVIII века, и народ (le peuple) со своей особой коллективной психологией. Никогда еще историческая эпоха не была так ярко освещена предшествующей ей эпохою.
Указывая на эти достоинства книги Тэна, нельзя не упомянуть и о выразительном, метком и конкретном язык его. Чтобы дать о нем понятие, мы приведем несколько образчиков в оригинале, чтобы не лишить их присущей им оригинальности.
Вот, например, описание салона: «De la voûte sculptée et peuplée d’amours folâtres descendent, par les guirlandes de fleurs et de feuillage, les lustres flamboyants dont les hautes glaces multiplient la splendeur; la lumière rejaillit à flots sur les dorures, sur les diamants, sur les tètes spirituelles et gaies, sur les fins corsages, sur les énormes robes enguirlandées et chatoyantes. Les paniers des dames rangées en cercle ou étagées sur les banquettes forment un riche escalier couvert de perles, d’or, d’argent, de pierreries, de paillons, de fleurs, de fruits avec leurs fleurs groseilles, cerises, fraises artificielles; c’est un gigantesque bouquet dont l’oeil a peine à soutenir l’éclat. Point d’habits noirs comme aujourd’hui pour faire disparate. Coiffés et poudrés, avec des boucles et des noeuds, en cravattes et manchettes de dentelle, en habits et vestes en soie feuille morte, rose tendre, bleu céleste, agrémentés de broderies et galonnés d’or, les hommes sont aussi parés que les femmes. Hommes et femmes on les a choisis un à un; ce sont tous des gens du monde accomplis, ornés de toutes les grâces que peuvent donner la race, l’éducation, la fortune, le loisir et l’usage; dans leur genre ils sont parfaits». [23]
Вот несколько слов о последней поре этих салонов: «De toutes parts, au moment où ce monde finit, une complaisance mutuelle, une douceur affectueuse vient, comme un souffle tiède et moite d’automne, fondre ce qu’il y avait encore de dureté dans sa sécheresse et envelopper dans un parfum de roses mourantes les élégances de ses derniers instants». [24]
О перемене, какая произошла во французском язык под влиянием классического духа, Тэн говорит: «On en ôte (из языка) quantité de mots expressifs et pittoresques, tous ceux qui sont crus, gaulois ou naïfs, tous ceux qui sont locaux et provinciaux ou personnels et forgés, toutes les locutions familières et proverbiales, nombre de tours familiers brusques et francs, toutes les métaphores risquées et piquantes, presque toutes ces façons de parler inventées et primesautières qui par leur éclair soudain font jaillir dans l’imagination la forme colorée exacte et complète des choses, mais dont la trop vive secousse choquerait les bienséances de la conversation polie». [25]
Совершенно противоположен этому язык самого Тэна с его locutions brusques et franches, с его métaphores risquées: «Sauf Buffon tous mettent dans leur sauce des piments, c’est à-dire des gravelures ou des crudités. Dans ses deux grands romans Diderot les jette à pleines mains, comme en un jour d’orgie. A toutes les pages de Voltaire ils croquent sous la dent comme autant de grains de poivre. Vous les retrouvez, non pas piquants, mais âcres et d’une saveur brûlante dans la Nouvelle Héloïse, en vingt endroits de l’Emile et d’un bout à l’autre des Confessions». [26]
Характеристику Вольтера, чрезвычайно живую и меткую, но которую было бы длинно приводить целиком, он заканчивает словами: «Le merveilleux chef d’orchestre qui depuis cinquante ans menait le bal tourbillonant des idées graves ou court-vêtues, et qui, toujours en scène, toujours en tête, conducteur reconnu de la conversation universelle, fournissait le motif, donnait le ton, marquait la mesure, imprimait l’élan et lançait le premier coup d’archet». [27]
Состояние умов перед революцией описано в нескольких словах следующим образом: «Dans ce grand vide des intelligences les mots indéfinis de liberté, d’égalité, de souveraineté du peuple, les phrases ardentes de Rousseau et de ses successeurs, tous les nouveaux axiomes flambent comme des charbons allumés et dégagent une fumée chaude, une vapeur enivrante. La parole gigantesque et vague s’interpose entre l’esprit et les objets; tous ses contours sont brouillés et le vertige commence». [28]
Пробуждение в образованном обществе социального вопроса облечено в реалистический образ, поражающий читателя своей изысканной простотой и контрастом между будничным явлением, о котором идет речь, и социальной идеей, таким способом выражаемой. «C’est entre 1750 et 1760 que les oisifs qui soupent commencent à regarder avec compassion et alarme les travailleurs qui ne dînent pas». [29]
Мысль, что революционная теория была бессознательно взлелеяна аристократическими салонами, выражена в грациозной параболе: «Une fois la chimère née, ils la recueillent chez eux comme un passe-temps de salon, ils jouent avec le monstre tout petit, encore innocent, enrubanné comme un mouton d’églogue; ils n’imaginent pas qu’il puisse jamais devenir une bête enragée et formidable; ils le nourrissent; ils le flattent, puis de leur hôtel ils le laissent descendre dans la rue». [30]
Если бы кому-нибудь показалось, что этот образ внушен Тэну нерасположением к революции, тот пусть прочтет поразительно аналогическое место у Герцена, написанное за много лет до книги Тэна: «не существуют эти удивительные гостиные, где под пудрой и кружевами — аристократическими ручками взлелеяли и откормили аристократическим молоком львенка, из которого выросла исполинская революция». [31]
Мы дошли до момента, когда «химера» выпущена на улицу; в следующем томе Тэн описывает, как она вырастает и овладевает Францией.
Глава третья. Анархия
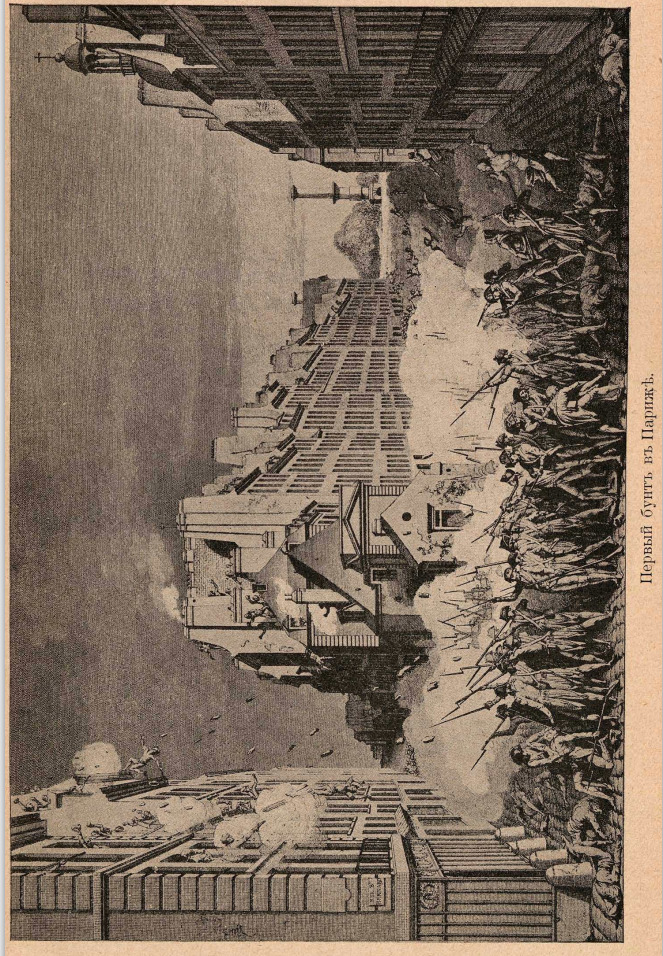
1. Анархия стихийная
Все предшественники Тэна в истории революции начинали ее с изображения парадного зрелища в Версали — в королевской зале «Увеселений» (des Menus Plaisirs), когда после долгого промежутка собрались в последний раз Генеральные Штаты Франции. Тэн поступил иначе. Он сразу показывает читателю подполье блестящей обстановки, которое должно было поглотить и короля-освободителя и большинство тех тысячи двухсот депутатов, приветствовавших его своим восторженным Vive le Roi.
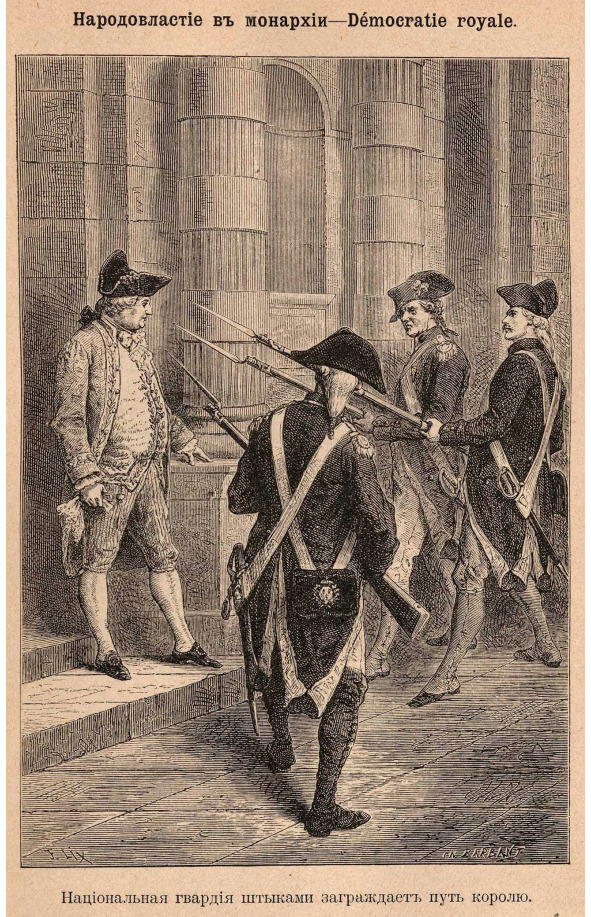
Известно, что, когда герцог Ларошфуко-Лианкур разбудил Людовика XVI, чтобы сообщить ему о взятии Бастилии, король воскликнул: «Так это бунт!» — (c’est donc une révolte). «Нет, сир, возразил герцог, — это революция». В том-то и было дело, что оказался прав не король, а герцог, и ошибка не только Людовика XVI, но и всего его правительства заключалась именно в том, что они не сознавали, с чем имеют дело, а именно с коренным государственным переворотом. Но Тэн несогласен ни с королем, ни с герцогом, и прибавляет от себя: «событие было еще серьезнее». Власть не только ускользнула из рук короля, но и не попала в руки Национального собрания; она волочилась по земле, была в руках спущенной с цепи толпы, в руках насильственного и возбужденного сброда, который подбирал ее, как брошенное на улице оружие. На деле уже не существовало более правительства, искусственное общественное здание рушилось целиком — все возвратилось к первобытному состоянию. То была не революция, «а разложение». Ce n’était pas une révolution, mais une dissolution.
В этом выражении, избранном нашим историком для характеристики состояния Франции в 1789 года, заключается новая, свежая мысль, внесенная им в объяснение французской революции. Он хочет этим сказать, что не одни ошибки правительства, не одна только близорукость и нерешительность Людовика XVI и его министров — не одно только доктринерство и честолюбие депутатов третьего штата повергли Францию в пучину революции. Дело было в том, что реформа, на которую наконец решился Людовик XVI и ради которой он созвал Генеральные Штаты, застала французское общество и народную массу в состоянии полного разложения, совершенной анархии, умственной и политической. Внезапность и стремительность этой неожиданно и повсеместно нахлынувшей анархии Тэн выражает словом l’anarchie spontanée и это выражение служит ему для обозначения всей первой книги его первого тома революции.
Париж играл такую руководящую роль в истории революции, что, естественно, всегда сосредоточивал на себе внимание её историков. В виду этого и установилось общепринятое мнение, что взятие Бастилии толпой 14 июля было сигналом для анархии, овладевшей селами и городами Франции. Тэн расширил и углубил вопрос. Королевское правительство потому было так бессильно по отношению к парижской толпе, что уже нигде не имело опоры, что уже повсюду толпа разнуздалась, не повиновалась местным властям, а эти последние не подчинялись центральному правительству. Анархия повсеместно водворилась прежде, чем она была официально признана правительством в Париже.
Понятно, как много света может внести эта точка зрения в историю революции. Посмотрим же, как объясняет Тэн возникновение этой «самородной анархии». Его изложение поучительно не для одной только истории французской революции. Лето 1788 года было чрезвычайно знойно и хлеб плохо уродился, а перед самой жатвой град уничтожил ее на пространстве 60 льё от Нормандии до Шампаньи. Крайне суровая зима довершила бедствие: в декабре Сена замерзла от Парижа до Гавра. Весною 1789 повсюду обнаружился голод. Во многих приходах четвертая часть населения нищенствовала; в Лотарингии «половина его умирает с голода»; в Париже число недостаточных утроилось: на рынках нет хлеба; перед 14 июля голод дал себя чувствовать еще сильнее. Читатель найдет у Тэна подробно составленный обзор проявлений голода и сопровождавших его бедствий — безработицы, раздражения от напрасного ожидания толпы у дверей пустых хлебных лавок и тревожный страх при мысли, что завтра совсем не будет хлеба.
Что голод играл роль в революции 1789 г., было и прежде известно, но никогда еще влияние этого стимула на тогдашние события не было изображено с такою осязательностью, как у Тэна. Описание бедствий, порожденных неурожаями в различных местностях Франции, дало Тэну, кроме того, возможность привести различные факты, показывавшие попечение правительственных органов и великодушие многих лиц из привилегированных классов, спешивших оказать помощь страждущим; — с другой же стороны, Тэн пользуется этим случаем, чтобы высказать свой взгляд на основы общественного устройства и характер народной массы. «Всеобщее повиновение, на котором зиждется общественный порядок, зависит часто от одного градуса температуры, увеличивающего летний зной или зимний холод». По крайней мере это было так, по мнению Тэна, во Франции, где в XVIII веке общее благосостояние было столь мало обеспечено, «что простой народ едва мог жить, когда хлеб был дешев, и чуть не умирал (se sentait mourir), когда он становился дорог», так что под влиянием этого страха легко пробуждался «животный инстинкт». Тэн замечает, что при Людовиках XIV и XV народу приходилось еще чаще поститься и страдать, а между тем в то время мятежи, круто и быстро усмиряемые, были только местными и непродолжительными смутами. Почему же голодовка 1789 года имела такие роковые последствия? Потому, — отвечает Тэн, — что «стена, служившая оградой для общества, была прежде слишком высока. Но вот в ней оказалась трещина. Вся стража её — духовенство, дворянство, третье сословие, литераторы, политики, самое правительство начинают пробивать в ней широкую брешь. В первый раз бедняки усматривают выход, и они бросаются туда сначала кучками, потом толпами, и мятеж становится столь же общим, как прежде было всеобщим смирение».
Отчего же это случилось? Оттого, что неудовольствие и тревога народной массы, вызванные голодом, совпали с началом административного преобразования, реформы. В 1787 году во Франции были введены, под именем «провинциальных собраний», земские собрания из депутатов трех штатов. Под руководством провинциальных собраний действовали волостные и приходские собрания. Весь административный механизм преобразован. Этим новым собраниям поручены распределение и сбор податей и заведывание общественными работами. Вследствие этого прежние органы администрации, интенданты и их подчиненные, утратили три четверти своего авторитета. Граница между старым и новым начальством определена неточно и вследствие этого «повелевающая власть становится шаткой». «Подданные не чувствуют более на своих плечах тяжести той руки, которая одна, без постороннего вмешательства, их сгибала, толкала и заставляла идти вперед». Мало этого, по распоряжению провинциальных собраний созываются сходки для приведения в известность того, какую часть крестьянского дохода поглощают налоги, сколько в каждом приходе привилегированных, как велико их состояние и какую сумму доставила бы казне уплата налогов, от которых они избавлены… Крестьяне после этих сходок начинают задумываться о своем бедственном положении и понимать его причины. Следуя своему натуралистическому методу, Тэн так изображает влияние местного самоуправления на настроение сельских обитателей: «Представьте себе почтовую лошадь, в голове которой вдруг бы блеснул луч разума и озарил ей породу лошадей, а с другой стороны — породу людей, и затем вообразите, если вы в состоянии, какие новые мысли представились бы этой лошади сначала на счет ямщиков, которые ею правят и ее подгоняют, а потом на счет доброжелательных путешественников и дам, сожалеющих о ней, но прибавляющих к тяжести повозки собственный груз и багаж».
Но этого мало: само правительство выпускает из рук вожжи и призывает народ к власти. За местным самоуправлением следовало преобразование центрального правительства. В ноябре 1787 года король объявляет, что созовет Генеральные Штаты; 5 июля 1788 года он требует от всех учреждений и компетентных лиц мнений по поводу организации этих штатов. 8 августа он назначает срок их созвания; 27 декабря он предоставляет третьему штату двойное число представителей, потому что «интересы этого штата поддерживаются благородными чувствами и всегда будут иметь за себя общественное мнение»; 15 февраля 1789 года приходские собрания приступают к составлению своих наказов или «жалоб» и разгорячаются подробным перечислений всех бедствий, изображаемых ими на письме. «Его Величество, сказано в избирательном регламенте, желает, чтобы всякому была обеспечена возможность довести до Его сведения свои желания и неудовольствия (réclamations)». Крестьян заставляют говорить, с ними совещаются, им хотят помочь, их тяжкое положение будет облегчено, для них наступят лучшие времена. Что будет, они сами не знают; несколько месяцев спустя английский путешественник, Артур Юнг, слышал от крестьянки, «что ей говорили, что есть богатые люди, которые хотят прийти на помощь её сословию», но кто и как, она не знает. Не знают этого и крестьяне.
Среди всех этих не вполне понятных им правительственных начинаний и приглашений выясняется надежда на внезапное облегчение, убеждение, что они имеют на это право, решимость содействовать этому всеми средствами, и отсюда напряжение воли, которая ждет только случая, чтобы перейти в действие и, как пущенная стрела, неудержимо устремляется к цели, внезапно представившейся. Цель же намечается голодом — нужно, чтобы на рынке вдоволь было хлеба; нужно, чтобы фермеры и землевладельцы его туда доставляли, чтобы оптовые покупатели — хлебные торговцы и правительство — не увозили его в другие места; нужно, чтобы на хлеб была установлена дешевая такса, не более 2 су [32] за фунт; чтобы хлеб, соль, вино, вообще съестные припасы не были обложены акцизом, чтобы не было сеньориальных оброков и повинностей, не было церковной десятины, не было ни городских, ни королевских податей. И вот в марте, апреле и мае начинаются мятежи; вначале это местные пожары, которые легко тушатся или сами тухнут. Но они тотчас вновь возникают, и их множество указывает на количество горючего материала. В четыре месяца, предшествовавшие взятию Бастилии, Тэн насчитывает более 300 мятежей во Франции, иллюстрируя их самыми разнообразными подробностями. Еще 9 января 1889 года толпа врывается в городскую ратушу Нанта и осаждает лавки хлебников, причем к крикам Vive le Roi примешивается крик Vive la nation. Несколько месяцев спустя там же в Бретани, которая впоследствии восстала против якобинцев за короля в союзе с дворянами и духовенством, крестьяне отказываются уплачивать церковную десятину, ссылаясь на то, что в наказе их округа была потребована её отмена. Когда городская чернь в Лионе сожгла и уничтожила заставы, взимавшие акциз с вина и ввозимых в город съестных припасов, окрестные крестьяне потянулись туда с громадными фурами вина, запряженными целым цугом волов, и настояли на том, чтоб их впустили беспошлинно.
Жители Агда истолковали двойное представительство третьего штата в том смысле, что король желает, чтобы все были равны, и что народу все дозволено. Согласно с этим толпа грозила подвергнуть город общему ограблению, если не будет вовсе уничтожен городской сбор с вина, мяса и рыбы, и городские власти были принуждены толпой, усиленной местными крестьянами, объявить через трубачей, что все требования народа исполнены. Три дня спустя крестьяне вернулись и заставили больного старика епископа, собственника мельницы, спустить на половину арендную цену за свою мельницу и тут же, сидя на уличной тумбе, он должен был удостоверить свою уступку нотариальным актом.
Вообще в буйствах и насилиях как деревенской, так и городской толпы в первое время непосредственно чувствуется влияние голода, особенно на юге Франции. Так в Бриньоле крестьяне заставили владельцев тамошних мельниц продать их общине за бесценок, да еще в долгосрочный беспроцентный долг, разорительный для владельцев, и когда гербовый акт о продаже был подписан владельцами, крестьяне пришли в такой восторг, что отслужили молебен в соседнем монастыре. И другие случаи насилия объясняются влиянием претерпеваемого голода или опасением его: так, когда крестьяне забирают хлеб из амбаров землевладельцев по удешевленной цене, с обещанием заплатить за него после следующей жатвы, или когда жители одной деревни избивают и прогоняют жителей соседней общины, пришедших на их рынок за покупкой хлеба.
Но это так только вначале. Политические преобразования вскружили народу голову. «Громкие фразы возымели свое действие». Когда до толпы дошли слухи, что Генеральные Штаты займутся возрождением государства, она отсюда заключила, что их созвание будет началом полного и безусловного переворота в положении и состоянии «всех». «Во многих местах открыто говорили, что объявлена война против собственников и собственности». «В городах и деревнях народ продолжает толковать, что он ничего не хочет платить: ни налогов, ни поборов, ни долгов».
Устранившись от всяких обязательств по отношению как государства, так и частных лиц, крестьянин перестает признавать местные власти, сменяет их или сам становится на их место, издает законы, присваивает себе судебную власть, руководясь собственными представлениями о справедливости. У кого есть хлеб, должен наделить того, у кого его нет. У кого деньги, должен поделиться с тем, кому они нужны для покупки хлеба. На этом основании в Баржоле принуждают урсулинок уплатить 1800 ливров, капитул — отпустить 50 возов хлеба; у одного бедного ремесленника отбирают 18 франков, у другого 40; каноников заставляют выдать арендаторам расписки в получении аренды. Обходя дома, с дубиной в руках, толпа заставляет одних платить деньги, других прощать долги, одного отказаться от уголовного процесса, другого от исполнительного листа, им полученного, третьего — возвратить издержки за процесс, выигранный много лет тому назад, отца — заставляют дать согласие на брак сына.
К этому присоединяется замечательная черта, наблюдаемая и в других случаях народного восстания. Крестьяне вспоминают все свои прошлые обиды или то, что они считали для себя обидой — а у крестьян, как известно, — прибавляет Тэн, — цепкая память. Сделавшись господином, крестьянин восстановляет правду (redresse les torts) особенно в тех случаях, в которых он потерпел ущерб. Восстановляет он эту правду по-своему. Общее восстановление прав обозначает прежде всего возвращение полученных по феодальному праву повинностей. У агента господина де-Монмеяна крестьяне отнимают все его деньги, в возмещение тех, которые он получал в течение 15 лет в качестве местного нотариуса. Прежний консул Бриньола наложил в 1775 году на жителей 1.500–1.800 франков штрафа в пользу бедных; эту сумму 14 лет спустя у него отбирают.
Вообще консулы и прочие исполнители закона признаются людьми вредными, купчие крепости, податные списки, все эти документы, на основании которых они взыскивают поборы, — еще хуже их. В огонь с этим старым хламом — а кстати, как например в Иере, вместе с ними и все бумаги, хранящиеся у старшего нотариуса. Крестьяне одобряют только новые документы, заключающие в себе уступки, квитанции или обязательства в пользу народа.
Но насилия, возникавшие под влиянием нужды, своеобразных представлений о праве, или просто стремления к захвату чужого добра, становились еще хуже, когда к местному населению примыкали или им руководили профессиональные насильники и преступники. Еще в первом своем томе Тэн обратил внимание своих читателей на то, как велико было в старой Франции число людей, находившихся в открытой войне с государством — контрабандистов, [33] браконьеров, бродяг и преступников, ускользнувших от правосудия, и на ту роль, какую они способны были играть в смутное время, как подстрекатели и руководители толпы. Теперь их время настало, и Тэн описывает, как эти люди появлялись на сцену при всяком беспорядке, подобно волкам, чующим добычу, и как вследствие этого к ярости, вызванной голодом, примешивались злые инстинкты — и толпа, поднявшаяся, чтобы добыть себе хлеба, кончала убийствами и поджогами.
Из числа разных фактов, приведенных Тэном, укажем на следующий: близ Юзеса 25 человек в масках с ружьями и дубинами врываются к нотариусу, стреляют в него из пистолета, добивают его ударами, опустошают его дом, сжигают его книги, вместе с документами графа де-Рувра, находящимися у него на хранении; семерых из них удалось арестовать, но народ за них, бросается на жандармов и освобождает их. — Этих пришлых негодяев можно узнать по их действиям, по потребности уничтожать ради уничтожения, по их говору, по их дикому виду, по их лохмотьям. Они приходят из Парижа и из Руана, и в течение 4 дней город в их распоряжении: они грабят лавки, забирают воза, нагруженные хлебом, рассыпают хлеб, берут выкуп с монастырей и семинарий. Они вторгаются в дом местного прокурора, начавшего следствие против них, грозят его убить; они разбивают его зеркала, его мебель, уходят, нагрузившись добычей, ходят по городу и по окрестностям, грабят фабрики, ломают и сжигают все машины. — Таковы новые вожди народа: ибо при всяком столкновении наиболее дерзкий, наименее совестливый становится во главе и показывает пример в разорении. Пример же заразителен: начали с добывания себе хлеба, кончают убийствами и поджогами, и к мятежу, ограниченному пределами известной потребности, присоединяется насилие разнузданной дикости.
Таков был народ в революции, таковы были его вожди! А где же охрана, которая должна была защищать от них общество? Тэн дает своим читателям возможность следить за тем, как по мере возрастания народного шквала рассыпается плотина, воздвигнутая для охраны порядка и мирного общества. Самопроизвольной анархии снизу соответствует самопроизвольная забастовка почти всех властей, начиная с короля и кончая последним сельским стражником (garde champêtre). Властители старого порядка были люди, воспитанные в вежливости и в изящных манерах, а под влиянием новой литературы они исполнены гуманности и благих пожеланий в пользу народа. Многие из них даже непосредственно сочувствовали веяниям со стороны английского парламентаризма или американской демократии с её декларацией прав человека. Они готовились к национальному торжеству, к единению короля с народом, к братанию сословий и были далеки от мысли о братоубийственном раздоре. К тому же оружие, с которым они могли бы действовать против преступников и мятежников, сломилось в их руках. Та всеобщая, «самопроизвольная анархия», охватившая, как психическая эпидемия, всю страну, не пощадила и войска. Солдаты начинают дезертировать почти изо всех полков и в таком количестве, что в Париж прибывает ежедневно до 250 человек и приходится ставить у застав стражу, чтобы их не пропускать. В начале сентября дезертиров насчитывают до 16 тысяч — громадный процент для тогдашней французской армии на мирной ноге. И эти дезертиры не только ослабляют армию, а увеличивают в то же время собою число мятежников или паразитов, желавших жить на счет общества.
Еще хуже то, что даже на тех солдат, которые остаются в рядах, нельзя рассчитывать в случае нужды. Драгуны, посланные в соседнее местечко, чтоб усмирить волнение, говорят на пути своим офицерам: «мы следуем за вами, но знайте, что, если вы нам скомандуете стрелять, мы будем стрелять, но не в народ, а в вас».
А сами офицеры! Они часто сами на стороне освободительного движения. В городе Эсе восстание было вызвано городской пошлиной на муку, которую и пришлось отменить. Начальник местного гарнизона, де-Караман, по этому поводу писал: «это бедствие (т.е. восстание) принесло реальное благо… перенесение на достаточный класс того, что превышало силы бедных поденщиков… Замечается большее внимание со стороны дворянства и людей достаточных к бедным крестьянам». — Во время самого беспорядка этот добрый начальник и его сын были ранены; на этот раз, правда, солдаты, осыпанные градом камней, стреляли в толпу, но без команды своего начальника.
«Добродушие короля и военных начальников, говорит Тэн, удивительно: все толкуют о том, что народ ребенок, который грешит только по неведению, что нужно верить в его раскаяние, и как только он возвратится к порядку, встретить его с отцовскою нежностью».
В приведенном выше случае нежелание командира проливать кровь понятно. На юге Франции все городские доходы заключались в пошлине на ввозную в город муку (piquet) — «par une injustice énorme et une imprudence inconcevable» [34] — прибавляет Тэн.
Но восстание в деревнях имело совершенно иной источник. К желанию освободиться от феодальных повинностей присоединились захватное право и политическая агитация.
«Вы хотите знать виновников беспорядков, — пишет один здравомыслящий человек, комитету по расследованию их, — вы их найдете среди депутатов третьего сословия» и в особенности из стряпчих и адвокатов. Они пишут своим избирателям зажигательные письма; эти письма получаются в муниципалитетах, которые также состоят из стряпчих и адвокатов… Их читают громко на главной площади, и копии с них рассылаются по всем селам. В этих селах, — если кто умеет читать, кроме священника и помещика — то это местный практикант, прирожденный враг помещика, чье место он хочет занять, гордый своим напыщенным краснобайством, озлобленный своей бедностью и который не преминет выставить все в черном свете. По всей вероятности, это он редактирует и распространяет воззвания, которыми во имя короля призывают народ к насильственным действиям. В Секондиньи, в Пуату, 23 июля, рабочие в лесу имеют бумагу, предписывающую им преследовать всех дворян-помещиков и беспощадно убивать всех, которые не захотят отказаться от своих привилегий… с обещанием, что их преступления не только останутся безнаказанными, но что они будут за них награждены». — Депре Монпеза, корреспондента депутатов от дворянства, схватили, силой повели вместе с сыном к податному инспектору, чтобы принудить его дать подписку, которую от него требовали, с запретом всем местным жителям оказать ему помощь под угрозой смерти и огня». — «Подписывайте, говорят ему, — или мы вырвем у вас сердце и подожжем ваш дом». В эту минуту появляется соседний нотариус, конечно, их сообщник, с гербовой бумагой и говорит ему: «Сударь, я только, что прибыл из Ньора: депутаты третьего сословия приказывают поступать так со всеми дворянами; в городе — один из них за то, что отказался, был разорван на части на наших глазах». — «И пришлось подписать наше отречение от всех привилегий и наше согласие на налог, как будто дворянство не сделало этого уже ранее». — Шайка объявляет, что она станет так же работать в других соседних замках, и террор ей предшествует, или следует за ней, — «Никто не смеет писать, — сообщает Депре, — я решаюсь на это с опасностью жизни». — Повсеместно дворяне и высшее духовенство находятся в подозрении, сельские комитеты вскрывают их письма; они подвергаются домашнему обыску; их принуждают носить новую кокарду: быть дворянином и не носить её — значит заслужить виселицу. В Мимере, в провинции Мэн, де Бовуара, который отказался ее надеть, чуть не убили на месте. Двух депутатов от дворянства, Монтессона и де Baccè, явившихся с тем, чтобы просить у своих избирателей разрешения присоединиться к третьему сословию, — узнают близ Ман (Mans); какое дело толпе до их совестливых сомнений, до обязательного для них дворянского наказа, до этой самой их попытки от него освободиться? Довольно того, что в Версали они подавали голос за сохранение организации Штатов, и толпа преследует их, вдребезги разбивает их экипажи и грабит их чемоданы, — Горе дворянам, особенно если они были причастны к местной власти и, если они противятся народной панике!
Кюро, товарищ городского головы в Мане, приехав в свою усадьбу Нуи, говорил крестьянам, что слухи о нападении разбойников — фальшивая тревога: по его мнению, не следовало звонить в набат, а только спокойно выжидать. Это значит, что он заодно с разбойниками; вдобавок он скупщик и скупает хлеб на корню. Крестьяне уводят его вместе с Монтессоном, его зятем, в соседнее село, где есть суд. По пути их волочили по земле, перекидывая их из рук в руки, топтали ногами, плевали им в лицо, бросали в них нечистоты», — Монтессон был убит из ружья; Кюро медленно забит до смерти.
Плотник своим лощилом отрезает им головы, и дети несут их при барабанном бое и звуках скрипки. Между тем, местный судья, привлеченный силой, составляет протокол — о наличности 30 золотых и нескольких ассигнаций Учетного банка, найденных в карманах Кюро; при этом открытии раздается торжествующий крик: «Вот доказательство того, что он хотел купить хлеб на корню!» — Так проявляет себя народная справедливость; теперь, когда третье сословие представляет собою народ, всякая сбродная кучка людей считает себя в праве выносить приговоры и приводить их в исполнение — над жизнью, и имуществом.
В западных провинциях, в центре и на юге, это отдельные вспышки; на востоке, на полосе длиною от 30 до 50 миль, до самой Прованс — всеобщее воспламенение: Эльзас, Франш-Конте́, Бургундия, Маконе, Божоле, Овернь, Виенне, Дофине, — вся эта область походит на одну длинную сплошную мину, которая разом взорвалась. Первый столб пламени выбивается наружу на границе Эльзаса и Франш-Конте́, близ Бельфора и Везуля, — страна феодальная, где крестьянин, обремененный налогами, несет более нетерпеливо более тяжелое ярмо.
Инстинктивно мысли его бродят — хотя сам он того и не сознает. «Доброе Собрание и добрый король желают, чтобы мы были счастливы: а что, если бы мы им помогли? — Уже говорят, что король освободил нас от налогов: а если бы мы сами себя освободили от повинностей (феодальных)? Долой помещиков! они не лучше чиновников!» Уже 16 июля замок Санси, принцессы Бофремон, ограблен, а 18-го три другие замка — де Люр, де Битен и де Молан. 29 июля, во время народного празднества у де Меме, печальный случай во время фейерверка дает повод крестьянам к подозрению, что приглашение это ловушка и что от них хотели отделаться коварным способом. В ярости бросаются они на замок его и поджигают, — а на следующей неделе три аббатства разгромлены, одиннадцать замков разрушено, другие разграблены, «все архивы уничтожены, описи и планы унесены». — Появившийся там «ураган мятежа» несется по всему Эльзасу, от Гюнингена до Ландау. Мятежники показывают грамоту за подписью Людовика, гласящую, что в течение такого-то времени им дозволено самим совершать правосудие», — и в Зундгау ткач, прилично одетый, опоясанный голубой лентой, выдает себя за принца, второго сына короля. Прежде всего, они кидаются на евреев, своих наследственных пиявок, разоряют и грабят их жилища, делят между собою их деньги, и охотятся за ними, как за дикими зверьми. В один Базель, как говорят, явилось тысяча двести этих несчастных беглецов с семьями. Между евреем-кредитором и христианином-помещиком — расстояние не велико, и оно теперь исчезло. Ремирмон спасено лишь благодаря отряду драгун. Восемьсот человек атакуют замок Обербрунн. Нейбургское аббатство захвачено. В Гебвейлере 31 июля пятьсот крестьян, поданные Мурбахского аббатства, бросаются на дворец аббата и на дома каноников. Шкапы, сундуки, кровати, зеркала, окна, рамы, до кровельных черепиц, до дверных и оконных петель — все изрублено топорами; на прекрасном паркете среди комнаты зажигают костры, в которых гибнут библиотеки и документы. Вино разлито в погребах; серебро и белье унесены толпою». Ясно, что общество перевернуто вверх дном и что вместе с властью собственность переходит в иные руки.
Вот их собственные слова: в Франш-Конте, жители восьми коммун объявляют бернардинцам Грас-Дьё и Льёкруассан, «что, так как они входят в третье сословие, настала пора их господства над аббатами и монахами, ибо господство тех продолжалось слишком долго»; и после этого они отбирают все документы на владения или ренты аббатства в их коммунах. В Вержеле (Дофине́), во время разгрома замка де Мюра, некий Фереоль ударял большой палкой по мебели, приговаривая: «Вот тебе, Мюра; долго ты был господином: теперь наша очередь». — Те самые, которые грабят дома как простые разбойники по большим дорогам, думают, что они делают это на пользу дела и отвечают на оклик: «Мы за третье сословие разбойничаем». Везде они считают себя уполномоченными и ведут себя, как победоносное войско в отсутствии своего предводителя. В Ремирмоне и Люксёле они показывают указ, гласящий, что все это «разбойничанье, грабежи и разгромы» — законны.
В Дофине́ главари этих шаек уверяют, что в их руках есть королевские указы. В Оверни они исполняют «непременные приказы», имея указание, что Его Величество того желает. Нигде не видно, чтобы какая-нибудь мятежная деревня руководилась личной местью против своего помещика. Если они стреляют в встречаемых дворян, — это вовсе не по злобе. Они истребляют сословие, а не личности. Они ненавидят феодальные права, проклятые грамоты, в силу которых они платят, — а вовсе не помещика, который, если тут живет, относится к ним гуманно, с жалостью, а часто и благодетельствует их.
В Люксёле аббат, которого заставили, занеся над ним топор, письменно отказаться от всех сеньориальных прав в 23 владениях, — живет тут 46 лет, оказывая местным жителям лишь одни услуги. В кантоне Кремьё, где «разгромы ужасны, все наши помещики», пишут муниципальные чиновники, «патриоты и благотворители». В Дофине́, сеньоры, епископы, чьи замки разграблены, прежде других приняли сторону народа против министров. В Оверни сами крестьяне «высказывают свое отвращение к тому, что им приходится действовать против таких добрых госпож», но это необходимо: все, что они могут уступить в память оказанного им благоволения, — не поджигать замка госпож де Ван, столь милостивых; но они сожгли все документы; в три приема они подвергают заведующего их делами пытке огнем, чтобы принудить его выдать документ, которого у него нет; его вытащили из огня полуобгоревшего и то потому только, что его госпожи на коленах умоляли пощадить его. Повсеместно отдельные замки опустошаются прибывающей народной волной, и так как феодальные права часто в руках людей третьего штата, она постепенно захватывает более обширный круг.
Восстание против собственности не имеет пределов. От аббатств и замков мятеж переходит на «буржуазные дома». Вначале восставали против помещиков, — теперь же против всех, кто имеет какую-нибудь собственность. Зажиточные землепашцы, сельские священники покидают свой приход и ищут убежища в городе. Обирают проезжих. Шайки контрабандистов набивают себе карманы. При таких образцах жадность разгорается в разгромленных и заброшенных поместьях, где ничто не напоминает уже о присутствии владельца и все, кажется, может достаться первому, кто захочет. Так один соседний фермер унес вино, а на другой день вернулся за сеном. Из замков Дофине вся обстановка, до дверных навесок, увезена на нескольких возах. «Это война бедных против богатых», — говорит один депутат; а 3 августа комитет докладов Национального собрания объявляет, что, «никакая собственность, в чем бы она ни состояла, не осталась цела». В Франш-Конте «до 40 замков и господских усадеб были разграблены или сожжены». Между Лангром и Гре средним числом три замка из пяти разгромлены; в Дофине 27 выжжены или опустошены; пять в маленькой области Вьене и, кроме того, все монастыри: 9, по крайней мере, в Оверни; 72, как говорили, в Маконе и в Божоле, не считая Эльзаса. 31 июля, когда Лалли-Толандаль поднимался на трибуну, чтоб говорить, у него в руках были пучки отчаянных писем, список 32 замков, сожженных, разрушенных и ограбленных в одной провинции и подробности еще худших покушений против личностей: в Лангдоке де Барра был изрезан на куски в присутствии жены, близкой к разрешению, которая тут и скончалась. В Нормандии — помещик в параличе брошен на костер, с которого его сняли с обожженными руками; в Франш-Конте — госпожа Батильи вынуждена занесенным над её головой топором выдать свои документы на владение и на землю; госпожа де Листене, принуждена сделать то же, с приставленными к горлу вилами, — в то время, когда её дочери лежали у её ног без чувств; графу Монжюстену с женой, которых вытащили из кареты с тем, чтобы бросить в пруд, чему помешал проходивший полк, — в продолжение трех часов угрожают приставленными в упор пистолетами; шевалье д’Амбли силою увели из его замка, голого тащили по его селу и бросили на навозную кучу, вырвавши все волосы и брови в то время, как кругом его плясали».
Среди разложившегося общества и при жалком подобии правительства очевидно совершается вторжение варварства, которое довершит террором то, что начато насилием, и которое, подобно вторжению норманнов в X и XI веках посредством завоевания приведет к экспроприации целого класса. Напрасно национальная гвардия и оставшееся верным войско остановили его первый напор; напрасно Собрание прокладывает ему русло и старается ввести его в определенные границы. Декреты 4 августа и последующие постановления не более как паутина, протянутая поперек бурного потока. Лучше того, крестьяне, толкуя декреты по-своему, ссылаются на новый закон, чтобы продолжать или снова начать.
Нет более податей, даже справедливых, даже законных! «Множество сельских общин убеждены, что они не должны более платить ни королю, ни своим сеньорам… Разные села делят между собой луга и леса господские». — Заметьте, что архивы и феодальные документы на владение еще не тронуты в третьей части Франции, что крестьянину нужно, чтобы они исчезли, и что он постоянно вооружен. Для того, чтобы поднялись новые крестьянские беспорядки, достаточно, чтобы центральная узда, уже ослабевшая, совсем порвалась. Это дело Версаля и Парижа и там-то, в Париже и Версале, — одни по ослеплению и увлечению, другие — по близорукости и слабости, эти по уступчивости, те по ожесточению — все работают в пользу этого движения.
Таково изображение анархии, самопроизвольно охватившей Францию. До сих пор внимание историков было слишком занято прениями в Версале и волнениями среди парижского населения. О том, что происходило в провинции, упоминалось вскользь. Тэн начинает с провинции и от неё переходит к Парижу. От этого картина парижских событий получает соответствующий фон, и то демократическое движение, которое унесло старый феодальный порядок, а потом и новую конституцию, вполне раскрывается со всеми корнями, которые оно успело пустить в стране.
Показавши читателю, в какой степени провинции Франции были объяты анархией, Тэн вводит его в центр тогдашнего политического движения, в Париж. Окрестности этого города особенно сильно пострадали от неурожая. Уже в 1788 году, после градобития 13 июля, по официальным сведениям, голодающий народ готов рисковать жизнью ради жизни и открыто, смело ищет хлеба, где только может. Работы нет, так как помещики, лишенные дохода, не могут предоставить заработка. Оттого на больших дорогах толпа нападает на обозы, везущие хлеб в Париж; в Монлери толпа в 8тысяч, пришедшая с мешками, насыпает в них выставленный на рынке для продажи хлеб по сильно удешевленной цене, половину же растаскивает даром. «Жандармерия, пишет субделегат, растерялась: решительность народа изумительна; я в ужасе от того, что я видел и слышал». К насилиям, вызванным неурожаем, уже присоединяется экспроприация феодальной собственности. У помещика, всю зиму кормившего бедняков своей деревни, крестьяне разоряют плотину, которая гнала воду на господскую мельницу (moulin banal), [35] и, присужденные восстановить ее, не только от этого отказываются, но грозят, что если помещик ее восстановит, то они придут в числе 300 хорошо вооруженных, чтобы снова ее разорить.
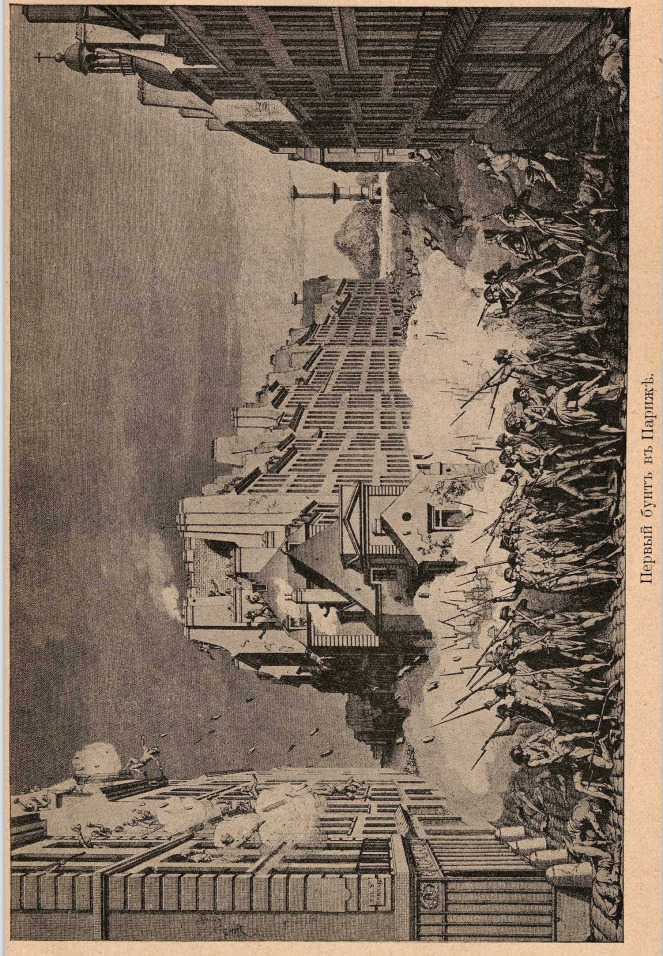
Голодные и безработные из местностей, близких к Парижу, приливали туда, увеличивая число бедствовавшего там населения. Но пришельцы являлись также издалека и в их числе особенно опасные профессиональные бродяги и паразиты общества, живущие преступлением. В конце апреля пристава на заставах отмечают появление «ужасного числа людей плохо одетых и мрачного вида»: в начале мая в Париже наблюдают, что вид толпы изменился; среди неё большое количество чужаков, собравшихся отовсюду, большею частью в лохмотьях, вооруженных дубинами, один вид которых предвещает то, чего нужно от них опасаться. Париж же и без того переполнен бедствующими — их насчитывали до 120 тысяч и город уже тратил громадную по своим средствам сумму, платя по франку в день двенадцати тысячам людей за бесполезные земляные работы на Монмартре.
Немного было нужно, чтобы превратить глухое неудовольствие и брожение этой толпы в политическую страсть. Со дня созвания Генеральных Штатов и манифеста, приглашавшего всех и каждого высказаться о формах народного представительства, язык и тон печати заметно изменяются; место общих и отвлеченных рассуждений заступает проповедь, бьющая в определенную практическую цель, внезапный глубокий и немедленный переворот, проповедь звонкая и пронзительная, как призыв трубы к сбору. Революционные памфлеты сотнями и тысячами посыпались на народ. Видимо новый фермент проникает в безграмотную и грубую массу.
Капля за каплей просочился он из верхних слоев — аристократии, интеллигенции, судебного мира (gens de loi) в школу, в молодежь и оттуда через тысячу щелей в класс, живущий трудом своих рук — в мозги рабочего, кабатчика, посыльного, уличной торговки, солдата. Уже в феврале руководящий министр Неккер признается, что повсюду исчезла дисциплина, никто не повинуется и нельзя даже быть уверенным в войске.
В конце апреля, до собрания Генеральных Штатов, в Париже вспыхивает первый народный бунт, разгром дома обойного фабриканта Ревельона в рабочем квартале св. Антония. Толпа развела три костра и выбросила на них все, что было в доме; золото и серебро было унесено, погреб же был разбит и вино роспито, чему грабители предавались с такою жадностью, что многие полегли на месте как омертвелые, а некоторые, упившиеся в опьянении спиртными лаками фабрики, на самом деле лишились жизни. Грабеж стал распространяться на соседние лавки и с трудом был подавлен с помощью войска. Солдаты встретили упорное сопротивление; градом посыпались на них с крыш черепицы и камни с труб; пришлось вызвать артиллерию и из грабителей остались на месте 200 убитых и 300 раненых.
Характерно, чем был вызван этот первый разгром среди Парижа. За несколько дней до него стали поговаривать в соседних кабачках и на улицах, что Ревельон, сам бывший рабочий, преуспевший с помощью своих изобретений, «дурно отзывался о народе». Ему приписывали слова, что женатый рабочий может прожить с семьей на 15 су поденной платы. Это была клевета: Ревельон платил даже самым простым рабочим по 25 су в день, и в течение зимы, несмотря на застой в делах, никого не рассчитал из числа своих 350 рабочих.
Характерна же эта черта потому, что все убийства, совершенные парижской толпой, были вызваны такими же вздорными слухами и росказнями. Про де Флесселя, купеческого старшину в Париже, т.е. городского голову при старом порядке, распустили слух, что он послал записку коменданту Бастилии с приглашением стойко держаться; митинг в Пале-Рояле объявил его изменником и приказал его привести; по дороге какой-то парень выстрелил в него из пистолета; толпа бросилась на него, растерзала и носила на шесте его голову.
Про Фулона, 74-хлетнего старца, истратившего зимою 60 тысяч франков, чтобы дать заработок бедным, пустили слух, будто он сказал, что, если у народа нет хлеба, пусть он питается травой. Его приволокли в Париж с копной сена на голове и с сеном во рту и, несмотря на неоднократные просьбы популярного Лафайета, чтобы Фулона направили в острог для суда над ним, толпа схватила Фулона и повесила на фонаре. Два раза веревка обрывалась; его повесили в третий раз, сняли, отрубили голову и носили ее по Парижу.
И после этого такой чувствительный историк, как Мишле, патетически восхвалял «народный суд» (la justice du peuple)!
Как далеко ушла от этой сентиментальной риторики современная коллективная психология, которая Тэну так много обязана! Еще в 1840-х годах Дудан, этот старинный друг hôtel de Broglie, письма которого, теперь изданные, представляют классический образчик любимого французами эпистолярного жанра — заметил, говоря о людском обществе вообще, «что все мелкие недостатки каждого из нас становятся пороками вследствие какой-то заразы, возникающей в каждом значительном сборище людей по той же причине, по какой образуется эпидемия тифа в госпиталях, куда каждый занес только незначительный недуг. Исходя из той же мысли, Тэн говорит о самодержавном народ 1789 года: «Толпа, собравшаяся с целью произвести какое-нибудь насилие, состоит из людей наиболее негодных и отчаянных, наиболее склонных к разрушению и своеволию; но этого мало; в то время, когда она в суматохе совершает свое насилие, каждый человек из этой толпы, самый глупый или самый грубый, самый безрассудный или самый развращенный, спускается еще ниже собственного уровня до последних пределов умопомрачения и ярости… Он не боится более закона, потому что сам отменяет его. Начавшееся бесчинство увлекает его далее, чем он хотел. Его ярость ожесточается от опасности и сопротивления. От соприкосновения с горячечными он заражается горячкою и идет вслед за злодеем, который стал его товарищем. Прибавьте к этому крики, пьянство, зрелище разрушения, физическое потрясение нервной системы, напряженной сверх сил, и вы поймёте, каким образом в крестьянине, в рабочем, буржуа, смягченных и прирученных старинной цивилизацией, в один миг обнаруживается дикарь, еще хуже — первобытное животное, разъяренная и похотливая обезьяна, которая убивает с зубоскальством и кувыркается среди произведенного ею опустошения».
В глазах Тэна революционная толпа — «слепой колосс, ожесточенный лишениями, который ломает все, за что ни ухватится, — ломает не только местные колеса государственной машины, которые могут быть починены, но еще и в центре главную пружину, дающую движение всему механизму, разрушение которой повлечет за собою порчу целой машины». У этой толпы свои вожди и подстрекатели. Чтобы познакомить с ними читателя, Тэн ведет его в сад Пале-Рояля, «огражденный привилегиями Орлеанского дома, куда полиция не смеет войти и где речь свободна». Никогда еще эта трибуна самого крайнего радикализма, «куда слетались со всего Парижа политические и литературные трутни», не была характеризуема такими меткими выражениями, и ни один еще историк не анализировал с таким реализмом и, можно сказать, с такою бесцеремонностью публику Пале-Рояля, которой принадлежит такая видная роль во французской революции. «Центр проституции, азартной игры, праздности и торговли брошюрами, Пале-Рояль привлекает к себе все это население без корней, которое бродит в большом городе и, не имея ни промысла, ни хозяйства, живет только ради любопытства или ради удовольствия, — заседателей кофеен, посетителей игорных домов, авантюристов и людей, не попавших ни в какую колею, неудавшихся или сверхштатных литераторов, художников и адвокатов, канцеляристов, студентов, ротозеев и праздношатающихся, иностранцев и обитателей меблированных комнат, — последних в Париже насчитывали до 40 тысяч». С таким же реализмом и с обычным своим мастерством Тэн описывает настроение и психологическое состояние толпы, состоящей из подобных элементов, которая, под влиянием импровизированных ораторов, радикальной печати и всеобщего увлечения, доходит до горячечного возбуждения. «В этом случайном сброде политиков со вчерашнего дня никто не знает того, кто говорит; никто не считает себя ответственным за свои слова. Каждый из них стоит там, как в театре, неизвестный среди неизвестных, с потребностью умилиться и прийти в восторг, поддаваясь заразительной силе окружающих его страстей, увлекаемый вихрем громких слов, сочиненных новостей, слухов, быстро растущих, преувеличений, которыми один старается перещеголять другого — кругом вопли, слезы,… Рукоплескания, судорожные движения, как во время трагедии». На такой сцене с восторгом принимаются самые дикие, самые чудовищные предложения; здесь не терпят противоречий; чей вид или чьи речи не нравятся толпе, тот подвергается немедленным оскорблениям и истязаниям. Толпа присваивает себе все функции верховной власти, к законодательной власти присоединяет судебную и из судьи тут же делается палачом».
Описание Пале-Рояля оставляет неизгладимое впечатление на всякого непредубежденного читателя; но не меньшим мастерством отличается характеристика корифеев той экзальтации, которая овладела Парижем. «Члены участковых собраний, ораторы казарм, кофеен, клубов и городских площадей, сочинители брошюр и сотрудники газет, — они роятся и шумят, как насекомые, появившиеся после дождливой ночи. С 14 июля тысячи новых должностей открылись для их разнузданного честолюбия: стряпчие, писцы нотариусов, художники, купцы, приказчики, актеры и преимущественно адвокаты; каждый из них хочет быть офицером национальной гвардии, администратором, советником или министром нового царствования, и новые газеты, появившиеся десятками, представляют постоянную трибуну, с которой риторы льстят народу в своем интересе… Во всех собраниях 60-ти участков (districts) Парижа адвокаты пережевывают на все лады высокопарные догматы революционного катехизиса. Любой из них от вчерашнего процесса о каком-нибудь брандмауэре прямо переходит к вопросу об организации государства и становится импровизированным законодателем, — тем более поощряемым и ободряемым рукоплесканиями, чем напыщеннее он доказывает присутствующим, что они от природы обладают всеми способностями и могут законно претендовать на все права». Ораторы, впрочем, не ограничиваются общими местами; нередко они прямо взывают к открытому грабежу и истреблению врагов, которых, не обинуясь, называют по имени — подобно Камиллу Демулену, восклицающему: «Враг попался теперь в западню и нужно покончить с ним; никогда еще такая обильная добыча не ожидала победителей; сорок тысяч дворцов и замков, две пятые всего движимого и недвижимого имущества страны будут плодом вашей победы. — Те, кто причисляет себя к завоевателям, будут, в свою очередь, покорены. Франция будет очищена». Это уже возвещение социалистического: «экспроприаторы будут экспроприированы». Такова, справедливо замечает Тэн, готовая программа наступающего террора.
Тэн выставляет на вид особую характерную черту парижской демократии — незрелость её главных вождей (как и во времена коммуны 1870 года), — незрелость, без которой немыслимо подобное увлечение; а способность, увлекаясь, увлекать других была тогда важнейшим условием успеха. «Взгляните на главных, на самых популярных; это — недозревшие или засохшие плоды литературы и адвокатуры; газеты, как на лотке, выставляют их каждое утро напоказ для покупателей, и, если они нравятся пресыщенной публике, так это именно за их остроту и горечь. В их неопытной или пустой голове нет ни одной политической идеи. Демулену — 29 лет, Лустало — 27 лет, и весь багаж их познаний заключается в гимназических воспоминаниях, в обрывках из курса юридической школы, в общих местах, набранных у Рейналя и подобных писателей. Что же касается до Бриссо и Марата, этих напыщенных филантропов, то они видели Францию только через окно своего чердака, сквозь очки своей утопии».
Не менее, однако, дурные последствия, чем незрелость вождей, имели присоединившиеся к этому эгоистические побуждения их и страсти — честолюбие и зависть. Тэн подробно описывает стесненное положение парижских демагогов, их неудавшиеся попытки добиться успеха или известности, их скитальческий образ жизни, их зависимость от других, которая шла до такой степени вразрез с их надеждами и притязаниями. Никто не высказал так наивно и цинично, какое громадное влияние имел эгоизм на убеждения демагогов, как один из них, юный прокурор фонаря — Камилл Демулен, слова которого приводит Тэн: «К моим принципам присоединилось удовольствие занять надлежащее мне место, доказать мою силу тем, кто меня презирал, унизить до моего уровня тех, кого судьба поставила выше меня. Мой девиз — девиз всех порядочных людей — никого не иметь выше себя (point de supérieur»).
Такие признания многознаменательны, и историк революции не может не принимать их в соображение. Но в этой трезвой правде о психическом состоянии парижского населения и личных побуждениях демагогов недостаточно выставлена одна существенная черта тогдашнего общества — страсть к славе. Никогда со времени Петрарки и Возрождения, когда, после монашеского самоунижения личности, впервые пробудилась страсть к славе и сделалась могущественным историческим фактором, — жажда обессмертить себя не проявлялась с такой силой и не охватывала такие массы людей, как в годину зарождения французской демократии. Читая тогдашние газеты и мемуары, на каждом шагу удивляешься, каким странным образом страсть к славе забиралась в сердце самых темных людей, и с какой тщательностью, с другой стороны, тогдашние публицисты старались увековечивать всякий подвиг, всякое имя, чтобы они не пропали для человечества. Почти ко всем патриотам революции применимо слово, которое сказал о себе один из «победителей Бастилии: «Hulin affamé de gloire». [36] Как это ни странно, что страсть к славе и жажда отличиться и обессмертить себя во что бы то ни стало преимущественно развились в эпоху демократических тенденций, но вся дальнейшая история демократии подтверждает это замечание.
Этим способом Тэн подготовляет своих читателей к главному выводу, который он извлекает из описания парижской черни и демагогов 1789 года. «Таким образом, посредством невольного просеивания (triage involontaire) партия, захватывающая власть, набирается лишь из людей яростных убеждений и свирепых действий (ne se compose que des esprits violents et des mains violentes). Самопроизвольно и без предварительного соглашения, буйные сумасшедшие оказываются в союзе с опасными зверями и, при возрастающем несогласии между собою законных властей, этот незаконный союз все разрушает перед собой».
На ряду с законными властями возникает новая сила, законодательный орган улицы и городской площади, анонимный, безответственный, необузданный, пришпоренный теориями кофейных, пафосом театров, мозговыми галлюцинациями — а кулаки, только что все переломавшие в слободе Сент-Антуанской, — его телохранители и исполнители!
Два электрических тока противоположных полюсов — злоба рабочего и фраза беспочвенного интеллигента встретились. Цепь замкнулась, удар должен был разразиться!
Он разразился 14 июля взятием Бастилии. Поводом к погрому Бастилии послужила отставка Неккера. Но участь Бастилии была давно уже решена. Уже в наказах шла речь об её разрушении. Этот форт (острог), стоявший когда-то на окраине Парижа, обратился за ненадобностью в настоящий острог — государственную тюрьму. Он предназначался для лиц административно заключенных, и, хотя в начале революции были, почти пуст — в нем было только семь заключенных — фальшивые монетчики и умалишенные — был ненавистен своим прошлым. Поэтому разрушение Бастилии было приветствовано во Франции и вне её как символ падения деспотизма и наступления свободы. Это разрушение воспевали в стихах и праздновали иллюминациями в Англии, Германии и в Петербурге. Но падение Бастилии имело на практике другое значение. Для французских крестьян оно стало призывом к разрушению местных Бастилии, т.е. помещичьих замков, в башнях которых сохранялись старинные инвентаря с обозначением повинностей чиншевиков, подвластных сеньору. Парижу же взятие Бастилии принесло полную автономию с самостоятельной сорокатысячной милицией — национальной гвардией. Но если Париж выделился из государства, то в то же время в нем самом возникла из его кварталов (секций) 60 независимых республик, не говоря о Пале-Рояле и независимой, анархической толпе.
В виду этого двойного значения погрома Бастилии и в историографии можно отметить два течения. Апологеты революции, как Мишле́, приходят в восторг от её разрушения, представляют это событие, как геройский подвиг, совершенный людьми, сознательно шедшими на смерть, чтобы навсегда освободить Францию от деспотизма. Тэн первый взглянул на взятие Бастилии с другой стороны; позднейшие исследования — Борда, Функ-Брентано и другие — еще более выяснили вопрос в этом направлении. 12 июля Пале-Рояль отвечает криком злобы на известие об отставке Неккера. Камилл Демулен становится на стол и объявляет, что двор замыслил Варфоломеевскую ночь против патриотов; толпа бежит вооружаться, грабит магазины оружейников, наконец захватывает в доме для инвалидов целый арсенал оружия с пушками; стоявший в Париже полк французской гвардии, развращенный в Пале-Рояле, переходит к мятежникам и встречает залпом кавалерию, высланную очистить улицы и площади от толпы. «Разбойники, вооруженные пиками и дубинами, грабят дома, с криком: оружия и хлеба». Одна из шаек врывается в монастырь Лазаристок, разрушает библиотеку, картины, оконные рамы, проникает в подвал и напивается; сутки спустя там оказались мертвые и умирающие — в их числе женщина в последнем периоде беременности.
«Подонки общества всплыли наверх», заключает Тэн. Очевидцы говорят с ужасом о том, чего они были свидетелями. Новый «мэр» Парижа, Бальи, заявляет, «что в течение двух дней и двух ночей Париж рисковал подвергнуться грабежу», а панегирист революции, Дюссо, признается, что он присутствовал, как ему казалось, при полном разложении общества».
Наконец на третий день раздался лозунг: «На Бастилию». Толпа стала пробовать награбленные ею ружья и с 10 часов до 5 палила из них в толстые стены Бастилии, а все соседние улицы были полны зрителей; в их числе много и элегантных дам, оставивших свои экипажи на некотором расстоянии.
Как все официальные защитники старого порядка, комендант Бастилии, Делоне, не думал о серьезной защите со своим маленьким гарнизоном в сотню инвалидов и 30 швейцарцев. Он принимал разные депутации и обещал не стрелять. Он приказал стрелять, лишь когда толпа ворвалась в наружный двор и пыталась проникнуть внутрь крепости. Но гарнизон струсил при виде пушек, которые были привлечены, и гвардейцев, занявших первые ряды осаждающих. Когда комендант бросился к пороховому погребу, чтобы взорвать его, часовой его не пустил. Гарнизон сдался на честном слове, что жизнь защитников будет пощажена, и спустил подъемный мост. Но толпа, ворвавшаяся вслед за передовыми победителями, не хотела слышать о пощаде и произвела между пленными резню. Делоне выволокли из Бастилии, всю дорогу подвергали истязаниям, продолжавшимся еще долго над трупом, наконец поваренок отрезал ему своим ножом голову, которую носили по улицам на шесте. На Новом мосту шествие остановилось пред статуей Генриха IV; трижды пред нею наклонили голову убитого со словами: «кланяйся твоему господину».
«Sous le boucher, on voit apparaître le gamin», [37] заключает Тэн.
Также безобразны, бессмысленны и жестоки были действия рассвирепевшей толпы в самой Бастилии. Особенность народного мятежа заключается в том, что при всеобщем неповиновении дурные страсти так же свободны, как и благородные побуждения, и что герои не в состоянии сдержать убийц. Толпа щадит швейцарцев, стрелявших в нее, ибо по костюму принимает их за арестантов; а тому инвалиду, который помешал коменданту взорвать пороховой погреб и который этим спас целый квартал Парижа, отрубает руку и, повесивши несчастного, носит его руку по улицам в триумфальном шествии. Впечатление, которое производит на читателей описание этого дикого разгула парижской черни, еще усиливается элегическим контрастом, которым Тэн заключает свою мрачную картину. В вечер после убийства Фулона и Бертье толпа опять теснится в Пале-Рояле; в одном из его маленьких ресторанов сидят за ужином повар, отрезавший голову коменданту Делоне и солдат, вырвавший сердце у Бертье — со своим трофеем. Но народ, толпящийся под окнами, требует себе трофей — убийцы выбрасывают его из окна и спокойно продолжают свой ужин, в то время как внизу с торжеством носят по саду сердце, воткнувши его в букет из белых гвоздик. «Вот зрелище, которое представляет этот сад, где год тому назад светское общество в нарядных туалетах собиралось побеседовать по окончании оперы, и нередко до двух часов ночи под мягким сиянием луны прислушивалось то к скрипке Сен-Жоржа, то к прелестному голосу Гарата».
Для полной картины анархии, овладевшей Парижем, нужно с этим всемогуществом преступной толпы сопоставить бессилие и безучастие революционного правительства. Национальное собрание, которое так смело сместило монархию, оказалось совершенно беспомощным и заискивающим перед охлократией. Мятеж восхваляется ораторами Собрания: никто из убийц не разыскивается, зато Национальное собрание назначает следственную комиссию для расследования «заговора министров». — «Победителям Бастилии» назначают награды; объявляют, что они спасители Франции. Превозносят народ, его великий смысл, его великодушие, его справедливость. Преклоняются пред этим новым государем; ему публично повторяют, официально и в печати, и в Собрании, что он обладает всеми добродетелями, всеми нравами, всеми полномочиями. Если он проливал кровь, то это по недосмотру, вследствие провокации и всегда руководясь безошибочным инстинктом. «К тому же, как выразился один из депутатов: разве эта кровь уже так чиста?» — «Большинство предпочитает верить в теории своих книжек, чем опыту собственных глаз: они пребывают в идиллии, которую они себе вообразили. В лучшем случае их мечта, покинув настоящее, ищет убежища в грядущем; завтра, когда конституция будет готова, народ, сделавшись счастливым, опять станет и мудрым: примиримся же с бурей, которая гонит нас в такую прекрасную гавань».
Ну, разве это не с натуры писано? Между тем, продолжает Тэн, из-за короля, пассивного и обезоруженного, из-за Собрания, послушного и бессильного, виднеется настоящий государь, народ, т.е. уличная толпа (l’attroupement), сто, тысяча, десять тысяч людей, собравшихся случайно в силу какого-нибудь призыва или тревожного слуха и немедленно, роковым образом становящихся законодателем, судьей, палачом. «Страшная сила, разрушительная и неуловимая, не поддающаяся ничьей власти. Вместе со своей матерью, шумливой и уродливой Свободой, она расположилась на пороге революции — как два призрака у ворот ада в поэме Мильтона».
Правда, в Париже завелась своя власть. Но по словам самого представителя этой власти, мэра Бальи, его муниципальный совет, с первого же дня, стал управлять самовольно, не обращая на него никакого внимания. В Париже установлен центральный орган городского управления — муниципальный совет под председательством мэра: но избравшие его дистрикты не обращают на него внимания, и каждый из них действует, как будто он самостоятельный и полный господин 18 июля комитет одного из этих дистриктов постановляет избрать мировых судей, и тут же избирает таковым актера Моле. Другой — отменяет амнистию, объявленную городским советом, и посылает двух своих членов за 30 льё привести генерала Безанваля, командовавшего войском, которое стояло под Парижем. Третий обсуждает вопрос о королевском вето и просит Национальное собрание отложить голосование по этому вопросу, и так далее.
Но под носом у этих комитетов действует толпа, не обращая никакого внимания на городские власти. 15 июля она начинает разносить стены и башни Бастилии, производит обыски и аресты. Несколько дней спустя городские власти восстановляют заставы для взымания городских пошлин. Но сорок человек вооруженных приходят заявить своему дистрикту, что, если у застав поставят стражу, они ее прогонят и приведут с собою пушки. Торжество революционной анархии обнаруживается не менее ярко в словах и действиях правительственных лиц и защитников государственного порядка. Что может быть характернее для тогдашнего положения вещей, как сцена в Сен-Жермене, где депутаты Национального собрания становятся на улице на колена перед толпой и с протянутыми к ней руками и слезами на глазах умоляют ее пощадить жертвы, которые она собирается убить; при чем, несмотря даже на это крайнее унижение, депутатам удается спасти только одну из двух жертв. Но еще более рисует настроение умов всеобщее раболепное поклонение перед новой аристократией — чернью — обращение первого министра, и в то время народного любимца, Неккера, к избирателям Парижа и к собравшейся около них толпе, у которой он вымаливал прощение Безанваля. «Я преклоняюсь, я становлюсь на колена перед самым безвестным, самым смиренным из парижских граждан…» Не следует думать, чтобы тут было какое-либо преувеличение у Тэна. Слова Неккера еще более изумляют, по справке с источником. Говоря 30 июля в собрании парижских избирателей, которые составляли временное правительство Парижа, Неккер от них обратился к толпе и сказал: «Я падаю ниц (je me prosterne) не перед вами, господа, которым, вследствие отличающего вас благородного воспитания (distingués par une éducation généreuse), остается только следовать совету вашего разума и инстинктам вашего сердца, но я бросаюсь на колена перед самым безвестным, самым смиренным из парижских граждан». Но правда, такое обоготворение охлократии производило иногда поразительные эффекты — «помиловать! помиловать!» возопили в один голос, громко рыдая, до 1.500 человек. [38]
Толпа милует и казнит. Она освобождает отцеубийцу, которого собирались предать казни.
Редактор популярнейшей в то время газеты, молодой Лустало, так много содействовавший успеху теории народовластия и самомнению толпы, в это время следующим образом описывает состояние Парижа: «Вообразите себе человека, у которого каждая рука, каждая нога, каждый член имел бы особый разум и особую волю, у которого одна нога захотела бы шагать, а другая оставаться в покое, у которого желудок требовал бы пищи, а глотка съёжилась, у которого рот начал бы петь, в то время когда глаза стали бы клониться ко сну — и вы получите поразительно верный образ столицы».
Но этот развинченный господин продолжает голодать. Несмотря на новую жатву, в Париже хлеба мало, и он дорог. Напрасно тощая городская казна ежедневно тратит 30 тысяч франков на удешевление хлеба у булочников, напрасно единственно оставшийся верным отряд — швейцарцы — маршируют день и ночь между Парижем и Руаном, охраняя хлебный подвоз. — А число безработных страшно растет. При первой вспышке террора, богатые люди, проживающие в Париже свои деньги, спасаются бегством. Швейцария так наполняется беглецами, что наемная плата за дома равняется цене их. Из Парижа исчезают иностранцы, уезжает герцогиня Инфантадо, прожившая там 800 тысяч франков — остаются всего три англичанина. А вместе с тем теряют места и заработок тысячи лакеев, поваров, парикмахеров, портных и других ремесленников. — «Я видел, пишет Бальи в своих заметках, купцов и ювелиров, просивших, как милостыни, чтоб их приняли в число землекопов, получавших 20 су в день».
На такой почве политическая агитация могла иметь громадный успех. И она продолжалась. Какое дело было фанатикам анархии, что Франция получила Национальное собрание и даже такое, которое отняло у правительства всякую власть. Им нужно было подчинить себе и правительство и самое Национальное собрание, заседавшее при короле в Версале. На этот предмет у них была и своя теория. Эта теория стара и нова. Она стара, потому что в сущности — это давно известное l’Etat c’est moi (государство это я), но только навыворот. Нова она потому, что в то же время опирается на «Общественный договор»: «В правительстве хорошо устроенном, народ в своей совокупности — настоящий государь (le véritable souverain). Наши делегаты только для того избраны, чтобы исполнять наши приказания. По какому праву глина посмела бы ослушаться горшечника!» В этом силлогизме очевидно недостает одного члена; он подразумевается и каждому анархисту понятен: «Народ — это мы».
Эта теория имеет свой орган — непрерывный митинг в Пале-Рояле. Там говорят речи, ставят на голоса предложения, делают постановления. В прениях и голосованиях участвуют здесь все те, кто не состоит в списках парижских избирателей, или кто предпочитает красоваться на более видной и шумной эстраде. Этот самодержавный митинг имеет своих вождей. Их характеристика у Тэна коротка, но многозначительна. Тут и Камилл Демулен, прокурор народной расправы — «адвокат без дел, обитатель меблированных комнат, обремененный долгами». С торжествующей улыбкой Демулен сообщает своим слушателям, что многие в столице называют его виновником революции. Лустало, недавно зачисленный в адвокаты при парламенте в Бордо и переселившийся в Париж. Дантон, второстепенный адвокат из Шампаньи, купивший свое место на занятые деньги и перебивающийся лишь благодаря луидору, еженедельно получаемому от тестя, лимонадчика. Бриссо, странствующий литератор, побывавший и в Англии и Америке, но вывезший оттуда лишь продранные локти и ложные представления. Наконец Марат, неудачник в литературе, потерпевший крушение в науке и философии, фальсификатор своих собственных опытов, уличенный в этом физиком Шарлем и с высоты своих безмерных научных претензий спустившийся на скромное место врача при конюшнях графа д’Артуа. Если Демулен — прокурор фонаря, то Марат — присяжный доносчик и ябедник самодержавного народа. Одного его слова было достаточно, чтобы погубить в Кане (Caen) майора де Бельзёнс. Теперь он занимается доносами на короля, министров, администрацию, судебное сословие, адвокатов, финансистов, университеты — все они находятся у него «под подозрением». «Правительство, возвещает он, скупает пшеницу для того, чтоб мы оплачивали на вес золота отравленный хлеб».
Под руководством таких вождей Пале-Рояль считает себя в праве направлять и даже заменять собою Национальное собрание. Почему же нет? Ведь это он «спас народ» в июльские дни, он — очаг патриотизма, он своими речами и брошюрами просветил народ и всех, даже солдат обратил в патриотов. И на самом деле митинг постановляет, что необходимо прогнать восвояси депутатов, «невежественных, подкупленных и подозрительных». Тем более, что наступило время решения самых важных вопросов: Собрание в Версале рассматривает основания будущей конституции. Следует ли держаться теории разделения властей, которую Монтескьё считал необходимой гарантией свободы, и завести верхнюю палату? Следует ли предоставить монарху самостоятельное участие в законодательной власти или лишь право временной отсрочки принятых Национальным собранием законов (veto suspensif). На Национальное собрание нельзя положиться. Даже Мирабо изменяет и стоит за самостоятельную роль монархии в конституции (veto absolu).
Тогдашние агитаторы обладали разными средствами производить давление на Версальское собрание. Прежде всего помещением на галерее верных людей, которые поддерживали рукоплесканиями патриотических депутатов и криками запугивали изменников. Исполнителями этого поручения служили солдаты, переодетые в штатское платье и чередовавшиеся на своем посту. Тут были и женщины, навербованные куртизанкой Теруан де Мерикур. А перед дверью Собрания прогнанные лакеи, дезертиры и женский сброд подносили к лицу депутатов кулак и грозили им «фонарем». В Пале-Рояле составляли списки депутатов, голосовавших против «народа», а газеты и частные письма распространяли их имена по провинциям. Сами депутаты получали угрожающие письма. Епископа Лангрского, председательствовавшего тогда в Национальном собрании, предупредили, что «15 тысяч человек готовы произвести иллюминацию в усадьбах депутатов, и в особенности в вашей собственной». Секретари Собрания оповещены, что две тысячи писем будут отправлены в провинции, чтобы довести до сведения народа о поведении дурных депутатов. «Ваши дома будут отвечать за ваши голоса — подумайте об этом и убирайтесь».
Но был путь еще более непосредственный; 1-го августа пять депутаций, во главе одной из них Лустало, отправляются из Пале-Рояля в ратушу с требованием, чтобы Коммуна барабанным боем собрала граждан для выбора новых депутатов, и постановила, чтобы Национальное собрание отсрочило свои заседания, пока дистрикты и провинция не выскажутся по вопросу о вето. На следующий день является новая депутация из Пале-Рояля, которая для большей ясности к словам присоединяет жесты: введенные в заседание Коммуны депутаты обхватывают руками свою шею, показывая наглядно, что, если члены Коммуны не исполнят требования, они будут повешены.
Эти угрозы и запугивания производились не напрасно. Разные депутаты третьего штата признавались, что они отказались от верхней палаты потому, что не хотят подвергнуть своих жен и детей в провинции опасности жизни (les faire égorger). А Мунье сообщает, что более 300 членов этого штата, т.е. его половина, решили поддерживать полное королевское вето — это значит, что при помощи членов двух первых штатов прочность монархии могла быть обеспечена в конституции. Но 10 дней спустя большинство отступается от этого решения, многие из привязанности к королю, опасаясь всеобщего волнения и не желая подвергнуть опасности жизнь королевской семьи. Type, избранный 1 августа председателем умеренною частью Собрания, отказывается принять избрание, потому что Пале-Рояль грозил прислать шайку головорезов, чтобы убить его вместе с теми, кто подавал за него голос, и по рукам стали ходить проскрипционные списки с именами разных депутатов.
Но всего этого, очевидно, недостаточно: есть только одно верное средство подчинить народу Собрание и исполнительную власть (le pouvoir éxécutif), т.е. короля — перевести их в Париж под непосредственное воздействие митингов и улицы. Мысль эта висит в воздух. Уже 30 августа сумасшедший маркиз Сент-Юрюг, самый шумный бульдог (aboyeur) Пале-Рояля, отправляется на Версаль с толпой в 1.500 человек. Но дело требует более усиленной агитации и систематической подготовки. На последнее указывает то обстоятельство, что в руках у босяков, принявших участие в экспедиции, были золотые монеты. Это, по всей вероятности, деньги герцога Орлеанского, которого его приближенные прочили в наместники короля.
И на этот раз политические агитаторы воспользовались нуждой народа. Впереди толпы, повалившей 5 октября по дороге на Версаль, шли женщины, матери семьи — они шли для того, чтобы привести в Париж «хлебника и хлебницу с их чадом». Они надеялись, что с переездом двора в Париж хлеба будет вдоволь. Но за этими женщинами шла толпа других; во главе их Луизон, хорошенькая гризетка Пале-Рояля, занимавшаяся там продажей букетов, которую в Версали избрали, чтобы говорить с королем. Среди этих женщин шли, одетые в женское платье и нарумяненные, их кавалеры. По дороге толпа измучилась, озябла, проголодалась. Пришедши в Версаль, она бросилась в залу заседания Национального собрания, наполнила галереи и самую залу вперемежку с депутатами и с мужчинами, вооруженными дубинами и пиками. Одна из пуассардок распоряжалась в зале, прерывая депутатов: «Заставьте молчать этого болтуна. Он говорит не к делу. Дело в том, чтобы добыть хлеба. Пусть говорит батюшка наш Мирабо. Мы хотим его слышать». Председатель Собрания, стесненный толпой и оскорбляемый, наконец оставляет свое место; его занимает женщина.
Другие женщины в это время делают свое дело на площади, где выстроен Фландрский полк. Они врываются в ряды его и заманивают солдат.
Наступает ночь; голодная толпа жарит на городской площади на костре убитую лошадь и насыщается полусырыми кусками мяса. Часть её укрывается в зале Национального собрания и в безобразиях проводит там ночь.
В полночь наконец прибыла Парижская национальная гвардия со своим командиром Лафайетом. Они заставили его силой следовать за ними. Теперь они в Версали окружают дворец и с ними оказалось несколько тысяч хулиганов; со своей стороны национальная гвардия Версаля также осаждает дворец. Король в плену, вместе со всем правительством, и беззащитен. Пока Лафайет держится на ногах, толпа сдерживается. В 5 часов утра он предается отдыху. Его отсутствием пользуется толпа, врывается во дворец, убивает двух телохранителей, проникает в покои королевы, которая едва спасается в комнаты короля. В эту минуту является Лафайет со своими гренадерами. С мраморного двора, где теснится толпа, поднимается крик: «в Париж» и король повинуется этому приказанию. Участь французской монархии решена.
И потянулось в Париж похоронное шествие французской монархии, а вместе с нею либеральной конституции. Озлобление до крайности возбужденной толпы перешло в противоположный экстаз. Одна из спутниц Мальяра, будущего руководителя сентябрьских убийств, слышала, что Лафайет обещал от имени королевы, что «она будет любить свой народ и будет к нему привязана, как Христос к церкви». Все умилены и обнимаются, гренадеры национальной гвардии надевают на королевских телохранителей свои шапки в знак братания. Все прекрасно. «Народ завоевал своего короля».
В центре шествия королевская семья и сотня депутатов в экипажах, за ними артиллерия с женщинами, сидящими верхом на пушках; за этим, обоз с мукой; королевские конногвардейцы, имея сзади на лошади национального гвардейца; далее Парижская национальная гвардия, за ними люди с пиками, женщины — пешком, верхом, в фиакрах и тележках. Впереди этой толпы несут на двух шестах отрезанные головы двух телохранителей, убитых в комнатах королевы. В Севре останавливаются у парикмахера, который должен завить и напудрить эти головы: их заставляют кланяться, раздаются смех и шутки; едят и пьют по дороге; чокаются с телохранителями; кричат и стреляют; мужчины и женщины, взявшись за руки, поют и пляшут в грязи. Таково новое братство. Это похороны всех законных авторитетов; торжество дикой силы над разумом; ужасный политический карнавал, предшествуемый знамением смерти, влечет за собой все власти Франции — короля, министров, депутатов, чтобы заставить их управлять сообразно с его безумием и держать их под пиками до той поры, когда ему вздумается их зарезать.
На этот раз, кончает Тэн, нет места для сомнения: террор установился и надолго.
Описание похода парижан в Версаль у Тэна можно назвать классическим эпизодом в его сочинении. Здесь его талант изображать физиологию людской толпы мог проявиться без ущерба. Описание взятия Бастилии у Тэна представляется односторонним, потому что в нем не дано места беспримерному увлечению идеей свободы, сопровождавшему июльское восстание. В событиях же 5-го и 6-го октября не было идеализма. Это не есть восстание, вызванное страхом, что реформы будут приостановлены, что надежда на лучшие времена будет обманута. Это проявление властолюбия парижской демократии с помощью голодающей толпы — первая из тех попыток подчинить себе Францию и её правительство, которые затем не раз повторялись. 14 июля обеспечило Национальное собрание от попытки ограничить его самовластие; 5 и 6 октября были порабощением как королевского правительства, так и самого Национального собрания и победой столичной охлократии над свободой.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.