
Бесплатный фрагмент - Годы как киноленты
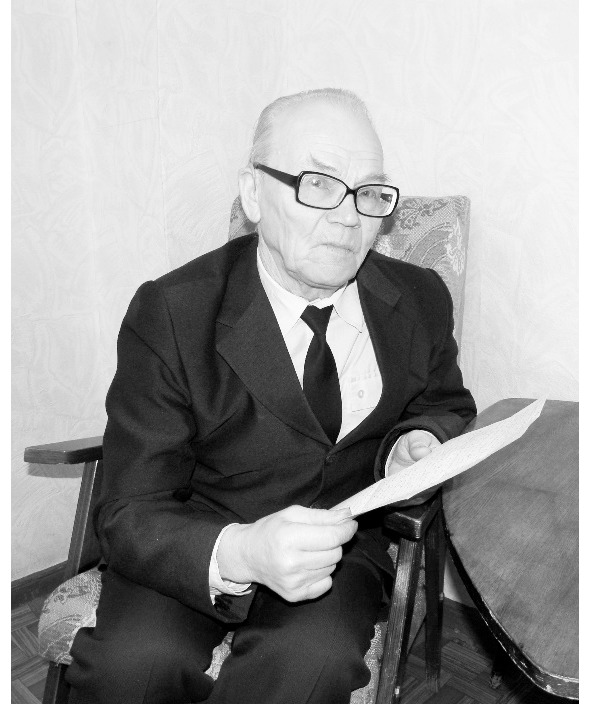
Об авторе
Юрий Михайлович Попов родился в 1939 году в г. Александровске Пермской области. С 1955 года живет в Гремячинске. Трудовую жизнь начал на железной дороге, после армии работал в городском узле связи. С 1969 года и до выхода в отставку по выслуге лет служил в горотделе милиции. Имеет высшее юридическое образование.
Стихи из увлечения перешли в самостоятельное творчество в 1997 году. С 2002 года Юрий Михайлович — участник и победитель многих поэтических городских и краевых фестивалей и конкурсов. Трижды становился дипломантом фестиваля поэтического творчества ГУВД Пермского края, дважды — лауреатом литературного конкурсов «Доброе слово» в рамках краевого фестиваля «Традициям славным верны» ГУВД Пермского края. С 2007 года — постоянный участник открытого поэтического конкурса «Отечества священная палитра» (г. Лысьва): в 2010 и 2020 годы — дипломант, в 2013 и 2014 годы — финалист конкурса. Стихотворения Ю. М. Попова вошли в поэтические сборники, изданные по итогам этих конкурсов в Лысьве, в сборники стихов гремячинцев «Звонкое имя» (1999) и «Находите счастье в малом» (2000). Его стихи не обходит вниманием гремячинская газета «Шахтер».
Большое влияние на его творчество оказал в свое время пермский поэт В. Л. Возженников, с которым их связывали теплые, дружеские отношения, десятилетняя переписка.
Подружитесь с интересным поэтом
Стихи Юрия Попова нельзя читать мимоходом, второпях. Они требуют особого подхода. При внимательном и вдумчивом прочтении перед читателем обязательно предстанет автор. Это человек, живущий на Урале и неравнодушный к Уралу: его истории, культуре, его природе, его людям, простым труженикам. В стихах Юрия Попова жизнь Урала тесно связана с жизнью всей нашей великой страны.
Его стихи глубоко патриотичны. Он пишет о том, что хорошо знает, что им понято, продумано, прочувствовано. А этих знаний оказывается так много, и ими так хочется поделиться с читателем или выплеснуть свои впечатления на бумагу, что стихи часто получаются многословными. Например, юбилейное стихотворение «В память доблестной чести». Ну как в нем не охватить все доблестные даты от защитников Бреста до акции «Бессмертный полк»? А «Легенда о первопроходце», написанная к 50-летию города? Отправной точкой послужил бронзовый памятник шахтеру, а дальше языком поэзии рассказана вся история гремячинских шахт и нашего Гремячинска. Показаны все горести и радости строителей города. Читай, изучай, сопереживай, гордись своими земляками.
Юрий Михайлович восхищается своими земляками, их мирным трудом, участием в Великой Отечественной войне (стихи «Пуговица», «Интервью с Перевозчиковым»). Утверждает, что и простые, самые обычные люди способны на высокие чувства и деяния. Поэт трогательно, по-своему пишет о человеческих привязанностях, об узах дружбы и родства («Сыну», «Письмо другу»), ненавязчиво пытается заставить нас задуматься о человеческих взаимоотношениях, делать благо, пока не поздно. Конечно, пишет он и о природе, показывая суровую красоту уральских речек и гор, может даже по-есенински заметить «белоствольный чулок у берез», а о холодном осеннем октябре написать так образно:
«Срывает ветер дождевые всхлипы
Несдержанные, будто капли слёз».
Сам Юрий Михайлович считает, что стихов у него немного, и объясняет это самокритичностью и жесткими требованиями к своему творчеству. Да, это так. Юрий Михайлович очень трепетно относится к слову, выполняет неукоснительно все правила стихосложения. У него оригинальные сюжеты, нестандартные рифмы, необычные метафоры. А что стихов мало, так ведь это как посмотреть. Может, это как раз тот случай, к которому подходят слова поэтессы Сафо: «Хоть их мало, но это — розы».
Так ли это, можно узнать, только подружившись с интересным поэтом. То есть прочитав его стихи.
Нина Елагина,
гремячинская поэтесса, ветеран педагогического труда.
Здравствуй, город, я пишу тебе
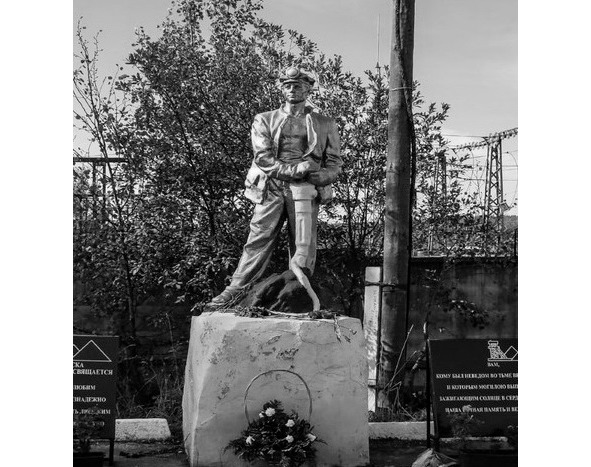
Легенда о первопроходце
Приезжая с Баской,
Со щемящей тоской
Я шепчу тебе: «Здравствуй, Гремячинск!»
Ты со склона холма
Мне цепочкой огней
Средь ночной тишины замаячишь.
Посреди белых зим
Город дорог, любим,
Хоть в Прикамье не стал знаменитым.
Почему же сюда
Отовсюду всегда
Меня манит и тянет магнитом?
Проходя вдоль аллей
Под листвой тополей,
Где к подстанции ввод на опорах,
Каждый раз я встречал
Небольшой пьедестал,
На котором скульптура шахтера…
Был я юн по годам
И не знал, что тогда
Рос Гремячинск — дитя лихолетья.
Он окреп, возмужал,
Маем он расцветал.
И сегодня ему — полстолетья.
У истоков начал
Зов Отчизны стоял:
«Все — для фронта! Все — для обороны!»
Вдоль Гремячки-реки,
Вдаль уральской тайги
Маршем шли трудовые колонны.
Не один эшелон
Приняв местный перрон
Трудармейцев. Для них скуповато
Представитель ЦК
Говорил, что к штыкам
Прировняли кайло и лопату.
Новостроек видна
Ширина и длина
В напряженьи, в движении, в рвеньи.
Город в толще земли
Суть Победы познал —
Это третье его измеренье.
Начинали с нуля.
Да не сразу земля
Отдавала свои кладовые:
Там — скала, а там — газ,
Там — пожар не угас,
А там — воды идут грунтовые.
Вдруг в реке задрожал
Звездный отблеск Ковша —
То ли стон под обрушенной кровлей,
То ль вздохнула гора,
Когда шел на-гора
Уголь, политый потом и кровью.
Снится мне иногда,
Что упала звезда
В ночь, когда горняка придавило.
Только выбрав момент,
Он забрал инструмент.
Знать, была еще жизненной сила.
И как, помню еще,
Торопливо вдоль щек
Будто капля с лица вниз скатилась
Может, выступил пот
Или просто роса.
Нет, живая слеза мне приснилась.
Только верю, что ты
С глубины и из тьмы
Смог подняться из лав на поверхность.
Снова уголь рубал,
Вагонетки катал,
Сохраняя шахтерскую верность.
Сделал все, что ты мог —
От асфальта дорог
До сияния звезд над копрами.
Глубиной своих чувств
Ты духовно возрос,
Стоек в зное, в морозы с ветрами.
Вместе с городом жил,
Отчий край полюбил,
Где все мило душе человека,
Даже шум городской,
От соседства Баской
И до зорьки, всходящей в Басегах.
Из «Шахтера» ты знал,
Кто как добычу дал,
Строил город, чтоб жить интересней.
Знал спортивный прогресс,
И учебный процесс,
И о городе пел свои песни…
И стоит он с тех пор,
Обращая свой взор
На широкий простор именитый
Посреди местных гор.
Величав он и горд,
Тот шахтер, что в чеканку отлитый.
В перекрестке дорог
Провожал он поток
Трудового шахтерского братства.
Отвалил молоток
Пласт угля возле ног —
Вскрытых недр основное богатство.
Опустилась рука
В рукоять молотка,
Словно только что вышел из лавы.
Стал спокоен и строг
Монумент невысок
Вечным символом доблестной славы.
Распрямил свою стать,
Вставши на пьедестал,
Приподнялся на первый пригорок.
Горечь бед на веку —
В перемол на муку —
Он приветствует солнечный город…
В свете новых времен
И на фоне реформ
Как тебе не хватает форсажа!
Всей душой не хочу
Чтоб рожденный в грозу
Провожали Гремячинск по стажу!
Разным слухам не верь.
Только память теперь
Бережет не года, а мгновенья.
Ни черемухи цвет,
Ни над Вильвой рассвет
Пусть не застит туманом забвенья.
Находясь в отпусках,
В самых дальних краях
Сколько раз тосковал по тебе я!
Ты былое хранишь,
Ты потомство растишь,
В век грядущий глядишь не робея.
Чтоб Отчизна жила,
Сила духа бодра,
Пройден путь, что тебе предназначен.
Так спасибо тебе,
Что ты в личной судьбе,
Щедрым даром тепла, мой Гремячинск.
Не теряйся в снегах,
Оставайся в веках,
В нашей памяти ты не растрачен.
Хоть и шахт ныне нет,
Ты оставишь свой след,
Скажешь слово свое, наш Гремячинск!
Так живи и твори,
Созидай и вершись!
Птица-счастья вернется, без спора,
Чтобы хилой травой
Не зарос пьедестал,
На котором скульптура шахтера.
Будут праздничный смех,
Фейерверки утех,
Медью петь юбилейные тосты.
И свой первый бокал
Мы поднимем за тех,
Кто дорогу проложил потомству.
1999г.
Баская
Н. И. Елагиной.
Верю Вам, что кричала душа
От тоски: «Ну какая тут жизнь?»
И шагала вперед не спеша
С выраженьем немых укоризн.
Может, кто-то ответ дал такой,
Может, я сфантазировал сам:
Почему деревушку Баской
Нарекли в приуральских лесах.
Говорят, жил охотник один,
В поэтичной душе — благовест.
Сам — судья, сам себе — господин,
Сам — радетель на сто верст окрест.
Имя звонкое местности дал,
Сам всевышний ли так одарил,
Что деревню, Баская назвал,
Отобрав красоту у зари.
Видно, был тот охотник пленен,
Очарован природной красотой,
Знать, и лаской жены опьянен
И душистой на травах росой,
Был влюблен в соловьиный оркестр
И в весенней черемухи куст,
Коль сумел красоту здешних мест
Совместить с глубиной своих чувств!
И когда на медведя ходил,
Раздробив бесконечность на дни,
Красотой в равновесии жил,
Для души теплоту сохранив.
И когда излучались в окне
Милый взгляд и заливистый смех,
Для него становился родней
Аквилоном взъерошенный снег.
Он, познав красоты благодать,
Был растроган до радостных слез,
Что, как Вы, был готов целовать
Белоствольный чулок у берез…
Я в архивах о том не искал
И не спорю с молвою людской:
С давних пор — как охотник назвал —
Деревушка зовется Баской.
11—12 января 2000г.
Я с тобою, город!
Некогда весёлая, простая,
Шумными составами звеня,
С привокзальной площади Баская
Двери распахнула для меня.
Город мой! Я жил в твоих тревогах
Зной и стужу поровну деля.
Я приехал пальцами потрогать
Грани скола на куске угля.
Помню, город, как под пылью синей,
По вагонам уголь шёл внавал.
По маршрутам видел всю Россию,
По углю — Гремячинск узнавал.
Любо мне, Когда как птичьей стаей
К склону прижимаются дома
И как солнце в небо поднимает
Их в тумане речки на дымах.
…Рухнули надежды под копрами.
Тракт шахтёрский зеленью пророс.
До сих пор незрячими ветрами
Душу холодит мне грусть берёз.
Где ж теперь твоя баская просинь?
К синим елям липнет полутьма.
Разве я могу, скажите, бросить
Эти в землю вросшие дома?
Стоит ли надеяться на чудо?
Стык времён нас клонит на излом.
— Город, слышишь? Я с тобой, покуда
Не угас ни сердцем, ни умом,
Остаюсь, чтоб вновь в рабочем гуле
Длилась радость жизни и труда.
Для того мы и перешагнули
Горечь перестроек навсегда.
Отзвук прошлых лет ещё не сдержан,
Ты себя в себе преодолей,
Крылья дать решительной надежде,
Распрямившись в вихре бурь, сумей.
Верю, ты сильнее станешь вдвое,
Шрамы зарастут в твоей судьбе
И твоё дыхание живое
Честь и славу возродит тебе.
Декабрь 2005г.
Военная наша память
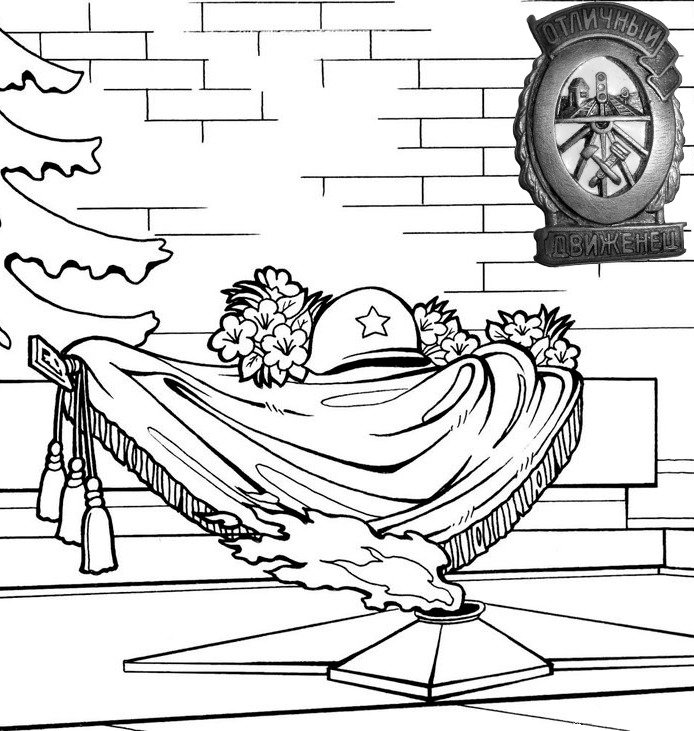
Баллада о нагрудном знаке
«Это нужно –не мёртвым,
это нужно — живым».
Р. Рождественский.
Июльский жаркий день к закату падал,
На завтра снова ведро предвещал.
В тени деревьев небольшого сада
Смородиной дед внучку угощал.
Под вечер тянет легкая прохлада,
Усталость дня с собою унося.
— Ты, деда, расскажи о тех наградах,
Которые на кителе висят.
— Что рассказать? Я заслужил медали
За долголетний безупречный труд.
Расти, живи, чтоб люди уважали,
А слава и почет тебя найдут.
И вспомнил дед седой в тени черемух,
С задумчивым прищуром глядя вдаль:
— А знаешь что? Вот прадеду твоему
Нагрудный знак дороже, чем медаль.
Ты видела значок в шкатулке алой,
Вокруг эмали потускнел металл?
Прошли года… Я был таким же малым,
Когда из сундука знак доставал
И любовался им я в тусклых сенцах…
Лет семь назад познал я от отца
Историю «Отличного движенца»
Логически до полного конца.
Давно то было, — брови дед нахмурил,
Иные мысли напрочь отгонял, —
Так вот, отец на станции дежурил,
Составы принимал и отправлял.
Военные — шли добывать Победу
И встречные — ее в тылу ковать. —
А внучка — вся внимание и деду
Вопросы перестала задавать.
Хоть крутит память кадры детства живо,
Тревожит деда трудный разговор:
Как передать доходчиво, правдиво,
По существу, заслугу давних пор?
Ведь для подростка каждый жест и слово,
Чтоб тот усвоил, нужно подбирать
И что неузнаваемо и ново, —
Как первый выход в космос, открывать.
А посему события той ночи
Поведал дел доступным языком.
(Рассказ отца — для взрослых, между прочим,
Цитирую почти что целиком).
«Однажды, в дни войны обычным рейсом
На Запад поезд с танками ушел.
Умолк ритмичный перестук по рельсам.
Отец с перрона в кабинет зашел.
Давай и мы зайдем туда вначале,
Посмотрим, как работалось им встарь:
Флажки цветные и рожок сигнальный,
Железный керосиновый фонарь,
Дистанционной связи стрекот весел, —
Тот телефон не смеет отдохнуть.
Круги — жезлодержатели без жезел
Ждут снаряжения в дальнейший путь.
Рабочий стол, на нем журналы, книжки,
Семилинейка, письменный прибор.
Ведет лет восемнадцати парнишка
Морзянкой телеграфный разговор.
Как близнецы, стоят два аппарата,
В пазах которых жезлы введены.
Дразнит голландки отблеск красноватый,
Гуляя вдоль небеленой стены.
Старинное демидовское зданье
Сигнальным колокольным языком
Встречалось и прощалось с поездами
И те в ответ здоровались гудком.
А ныне здесь иная обстановка:
Есть коммутатор, рация, табло.
Электровозы, автоблокировка.
И в здании — уютно и тепло.
Движеньем тока стрелки переводят,
На автосцепке ходят поезда…
Быть может, вас в экскурсию проводят,
Ты приглядись к условиям труда.»
В сравнении душе девичьей хрупкой
Дед дал понять, как жизнь идет вперед.
Но где же подвиг?
Вникнув в суть поступка,
Дитя цивилизации поймет.
«В ту смену неизвестность поразила,
Ударила, как грозовой разряд:
Ему с моста охрана сообщила,
Что пять вагонов следуют назад.
Эм — паровоз, подъем осилив тяжкий,
Повел по перегону эшелон.
В ходу порвало винтовые стяжки,
И хвост состава, пятясь под уклон,
Над Косьвой мост прошел быстрее ветра.
Состав на стыках с прогибаньем шпал
До станции почти пять километров
Шел с ускореньем, скорость набирал.
Открыта тормозной площадки дверца, —
Там вьюжный ветер сквозняком взвывал.
Кондуктор умер от разрыва сердца,
В руках сжимая тормозной штурвал.
Отец мгновенно мысленно представил
Картину на дыхании одном,
Как техника крушением составов
Столкнется, словно врежется в твой дом.
А ведь уже из тупика пригнали,
(Нечетному свободен перегон),
Готовый к отправлению подали
На главный5 санитарный эшелон.
С диспетчером нет времени связаться.
Добро, хоть в расписании «окно».
Свой паровоз уехал «подрезаться».
Да время на раздумье не дано.
Когда пути составами забиты,
Как обеспечить безопасный путь?
В едином целом ум и воля слиты,
Чтоб верным был единственный маршрут.
Судьба его на подвиг проверяла,
Ведя на преданность и мужество расчет:
Расстрел грозил за позднее начало
И прежние заслуги не в зачет.
В миг оценив такую обстановку,
Когда в запасе несколько минут
И нету средств, чтоб сделать остановку,
Надежда есть на коллективный труд.
Итак, в проблеме много вариантов
Пришлось отбросить, прежде чем один
В основу лег, благодаря таланту,
Отваге, дерзкой сметке двух мужчин.
Со сна поднял начальника из дома
И тот ему такой приказ дает:
«У нас по направлениям — подъемы,
Спеши, пока хвост набирает ход,
Освободить одну из линий сразу…
Перевести груз в заводской тупик…
И побыстрее!» — «Отдаю приказы!»
— «Так действуй смело, коль предельно вник».
Он маневровый взял от Коксохима
Чтоб товарняк загнать на подъездной.
Теперь, считай, беда предотвратима:
Вагонам обеспечен путь сквозной.
Живая мысль течет постам в приказе:
«готовь нечетному четвертый путь!»
И чувствуется жажда в каждой фразе,
Стремление живой воды глотнуть.
С уверенностью в четком исполненье
На подчиненных стрелочных постах
Пошел встречать хвост, в нервном напряженье
Оставив позади тревожный страх.
Отцу казалось: в ожиданье жутком
Застыли стрелки на его часах.
И сразу, за коротким промежутком,
Угрюмой темной тенью в двух шагах
В три фонаря, как ветер злой, напорист,
В рассветной мгле, за снежный горизонт
Проходит разорвавшийся тот поезд, —
Хвост от состава, шедшего на фронт.
Лицо обладало запахом знакомым,
Когда вагоны мчались напролом
И замерли вдали перед подъемом
У семафора с поднятым крылом.
Ушла из сердца тяжесть невесомо
И напряженье мыслей истекло.
И вот звенит душа струной веселой,
Наполненная внутренним теплом.
Хвалил начальник с воодушевленьем:
— «За четкость действий… будем представлять…
За предотвращение крушения…
Твой подвиг неприлично умалять…
Спас груз военный, железнодорожный…
Готовь на кителе для ордена дыру!»
А он стоял в волнении тревожном,
Удерживая дрожь на пальцах рук.
С сознанием исполненного долга
С дежурства молча шел отец домой.
Остановился вдруг и долго-долго
Стоял, как завороженный, немой.
Рукой смахнув с лица морщинки-сле́ды,
Глядел на гаснущие звезды ввысь…
Полгода оставалось до Победы
И впереди — оставшаяся жизнь
Ему в придачу…» Только в этот вечер
Дед умолчал, хотя отлично знал,
О том, что орден получил диспетчер,
Отцу в награду стал почетный знак.
— А поезд что ли, дед, ушел без танков?» —
Вопрос у внучки задан неспроста.
— Нет, на глухом соседнем полустанке
Состав дождался своего хвоста.
А между тем, прервав свое молчанье.
Прищурив вдумчиво усталые глаза,
Дед мог без всяких знаков восклицанья
Не только взрослым, внучке рассказать
О том, что он давно, с большой душою
Профессию отца стал уважать
За то, что в ней обычное, простое
Внезапно экстремальным может стать
И главное тогда зависеть будет
Не столь от переменных величин
И обстоятельств тех суровых буден
В когорте смелых, волевых мужчин,
Сколько о людей, чье сердце обжигало,
Всех тех людей, несущих свет из тьмы,
Кто не привык трудиться вполнакала,
Жить не привык у Родины взаймы.
Да только внучка, сидя на коленях,
Навряд ли сразу для себя поймет,
Зачем назвал, как будто в откровенье,
Дед подвигом случайный эпизод?
Вот потому у деда дар — от сердца:
Не бередить напрасно детский мир.
Пока что он «Отличного движенца»
Хранит, как драгоценный сувенир…
Нет вымысла в моем рассказе-правде.
Я завершаю длинных мыслей ход.
Уже два года, как скончался прадед…
Знак — связь времен — потомству перейдет.
Март — Август 1998г.
Отрывок из интервью
Посвящается памяти фронтовика
Перевозчикова Михаила Максимовича.
Четверть века назад
Я писал про него в стенгазете.
Из того интервью
Привожу боевой эпизод.
Говорил замполит,
И глаза излучались в привете:
«Мне в начале войны
Шёл семнадцатый год.
В сорок третьем — на фронт.
А в полку отобрали в разведку
И направили нас
Молодых добровольцев в дозор,
Чтоб обследовать лес,
Где скрывался противник нередко,
Но в бору нас засада ждала вперекор.
Видишь мету войны?
Так в фашистском плену нас пытали:
Раскалённым прутом
Прижигали края моих губ, —
Вот и стал рот похож
На прямую полосочку стали,
Посредине него — поперечный разруб».
Я представил себе,
Как в бессмертье бойцы уходили.
Их горячая кровь
Незабвенно стучит в тишине.
С неотпетой душой
Смерть на дыбе они победили,
Но не стали позором полку и стране.
«Из десятка ребят
Только трое в живых нас осталось.
В те же сутки наш полк
Смял врага, мне не дал умирать.
А потом воевать
Мне в полку также мало досталось:
Легкораненым в грудь я вернулся опять»
— Как вторым узелком
Стойкость духа на счастье досталось
С нитью жизни связать
На казацких полях древних сеч? —
Вижу, как нелегко
Сопрягать ветерану усталость,
Гарь атак и своей артиллерии речь.
«Видно, чей-то просчет
Мощным взрывом ударил в траншею.
Я по трубке ору:
«Надо через меня! Недолет!»
Новый взрыв оглушил
Тем же сбитым прицелом по шее…
И контузии взнос на три года вперед.
Было это еще
До погоды промозглой и волглой.
Был армейский приказ:
«Киев к празднику взять, к Октябрю»
Шквальный вихрь артогня
Так надолго отбросил за Волгу,
Что в Сибири родной ждал Победы зарю».
Был кротким рассказ,
Да слова за себя говорили:
Как нам жить, как служить,
Как нам надо Отчизну любить.
Возвращается мысль
К старой незарубцованной были
И срастается в целое —
Не разрубить!
Замполит ОВД,
Сколько раз Вам по жизни встречались
Посвист пуль, блеск ножей,
Глаз обреза глухого в упор!
Губы Ваши притом
Ещё строже и уже казались
Да давал иногда перебой мотор…
Его нет среди нас.
И виски мои в инее стали.
Только образ его
В своей памяти я берегу:
На широком лице-
Рот прямою полосочкой стали
И разруб
Истончённых под пытками губ.
Декабрь 1999г.
Пуговица
Посвящается фронтовику
Кашину Василию Ивановичу.
Шёл бой на подступах к Берлину.
На фронтовой передовой —
снарядов взрывы, грохот минный
и посвист пуль над головой.
Одна, жужжа из подлой мести
за то, что шёл в атаку взвод,
солдату с пуговицей вместе,
глубоко врезалась в живот.
И военврач из медсанбата
с трудом извлёк из недр бойца
в простую пуговицу вмятый
комок остывшего свинца.
«Была та пуля на излёте», —
сказал он, штопая живот.
«А рана, — молвил писарь в роте, —
та до Победы заживёт».
Та пуля, что бойца разила
(домой доставленный «трофей»),
пошла ребятам на грузило.
Для каждой удочки своей.
А седина у ветерана
блестит отливом желтизны.
Хранит Василий-свет-Иванович
заслуги памятной весны,
где посреди наград Державы
и знаков разных степеней —
свидетельство шахтёрской славы —
Одна в муаровой оправе,
как знак его гвардейской славы
за этот бой святой и правый —
вся так отчётливей, видней
медаль «За взятие Берлина»
и рядом с ней впритык лежит
солдатской пуговки пластина,
как броневой армейский щит.
Пластина малого формата
ушла заслуженно в запас:
она в бою спасла солдата.
Солдат страну родную спас.
Декабрь 2004г.
***
Помню, мама за прялкой сучила.
Напевая под веретено.
И мерцая, трещала лучина,
И рябина стучалась в окно.
Я, укрывшийся пёстрой рядниной,
Вёл в озябшей ночи ближний бой,
Отражая атаки рябины
И сверчка за печною трубой.
Словно был вместе с дядей, который
Улетел защищать Ленинград.
А в 17 неполных лет вскоре
Добровольцем ушёл мамин брат.
асли искры, как вспышки ракеты…
Память детства занозой саднит:
Брат у мамы пал без вести где-то,
Брат у папы над Волховым сбит.
Той войны эхо в пламени грозном
Для меня многократно звучней.
Вновь тревожусь печалью бесслёзной,
Когда гибнут коллеги в Чечне.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
