
Бесплатный фрагмент - Переводы британских историй
Посвящаю эту книгу
светлой памяти
моих Учителей:
Наталии Брониславовны ТОЛОЧКО,
Юрия Михайловича БОРОДИНА,
Марии Исааковны ФРОЛОВОЙ,
Бориса Александровича КАЦНЕЛЬСОНА
От переводчика
Дорогой читатель!
Если Вы держите в руках эту книжку — значит, Вы лицо не случайное. Свой брат, интеллигент. Человек, неравнодушный к художественному слову.
Когда-то, много лет назад, мне в руки попала толстая (более 1000 страниц) книга на английском языке, изданная в США в 1940 году. Она называется «Знаменитые британские истории. Книга для чтения перед сном». В ней были собраны восемьдесят рассказов писателей, живших в Великобритании в XVII–XIX веках.
Авторы этой книги — англичане, ирландцы, шотландцы — были очень разными людьми. У каждого из них свой взгляд на вещи, свой личный опыт, свои воспоминания, свое особое восприятие загадок человеческого характера и поведения. Но все эти восемьдесят историй дают нам общую картину британской ментальности того времени.
Малая литературная форма требует от автора особого мастерства. писателю приходится быть художником слова, ибо только слова служат ему цветами на канве и нотами в музыке прозы.
Данный выпуск открывает серию «Переводы британских историй». Мне как переводчику просто хотелось донести их содержание до русскоязычного читателя. Насколько это удалось, судить Вам.
⠀
Ольга Дьяченко
Уильям Джакобс
Обезьянья лапка
Вечер был холодный и сырой, но в маленькой гостиной на вилле Лейснем шторы были опущены и в камине ярко горел огонь. Отец и сын играли в шахматы, причем отец, всегда имевший идеи касательно внесения в игру радикальных изменений, ставил своего короля в такие рискованные положения, что даже его седовласая супруга, тихо вязавшая у очага, иногда комментировала его ходы.
— Ты только послушай, как ветер завывает! — Мистер Уайт, слишком поздно заметив свою фатальную оплошность, боялся, что сын тоже заметит ее.
— Слышу, — отозвался сын, глядя на доску и протягивая руку. — Шах!
— Вряд ли наш гость сегодня отважится прийти, — сказал отец, помедлив над доской.
— Мат, — ответил сын.
— Xуже нет, чем жить в этом захолустье! — вдруг взорвался мистер Уайт. — Из всех диких, глухих, мерзких мест на свете это — самое пакостное. Тропинки как болота, дорога — сущее бедствие. И о чем только думают власти? Эту халупу давно пора снести.
— Ничего, дорогой, — утешала его жена. — Может быть, в следующий раз ты выиграешь.
Мистер Уайт поднял глаза как раз вовремя, чтобы перехватить понимающий взгляд, которым обменялись мать и сын. Слова замерли у него на губах, а виноватая улыбка спряталась в негустой седой бороде.
— А вот и он, — сказал Герберт Уайт, услышав, как хлопнула калитка и тяжелые шаги направились к двери.
Старик вскочил, открыл дверь и пошел встречать гостя, приход которого, по-видимому, был для него очень лестным событием. Миссис Уайт деликатно кашлянула при виде мужа, входящего в комнату в сопровождении высокого грузного мужчины с багровым лицом, сурового на вид.
— Сержант Моррис, — представил он гостя.
Сержант пожал руки домашним и сел в приготовленное для него кресло возле огня, с удовольствием глядя, как хозяин достает из буфета виски и рюмки и ставит на огонь небольшой медный чайник.
После третьей рюмки глаза гостя заблестели, и он разговорился. Маленький семейный кружок слушал пришельца из далеких стран с неподдельным интересом, а тот, сидя в кресле, расправив широкие плечи, повествовал о странных зрелищах и удивительных явлениях, о войнах и эпидемиях, о других народах.
— И вот так двадцать с лишним лет, — кивнул хозяин в сторону жены и сына. — Когда он уезжал, это был юнец из воспитательного дома. А теперь — взгляните на него!
— Глядя на него, не скажешь, что он прожил тяжелую жизнь, — вежливо отозвалась миссис Уайт.
— Я бы сам хотел поехать в Индию, — сказал старик. — Хотя бы, знаете, просто посмотреть.
— Лучше уж оставаться там, где ты есть, — проговорил Моррис, качая головой. Он поставил на стол пустой стакан и, вздохнув, снова покачал головой.
— Я бы так хотел увидеть своими глазами все эти старые храмы, факиров, йогов! — продолжил старик хозяин. — А что ты мне начинал рассказывать об обезьяньей лапке или чем-то в этом роде, Моррис?
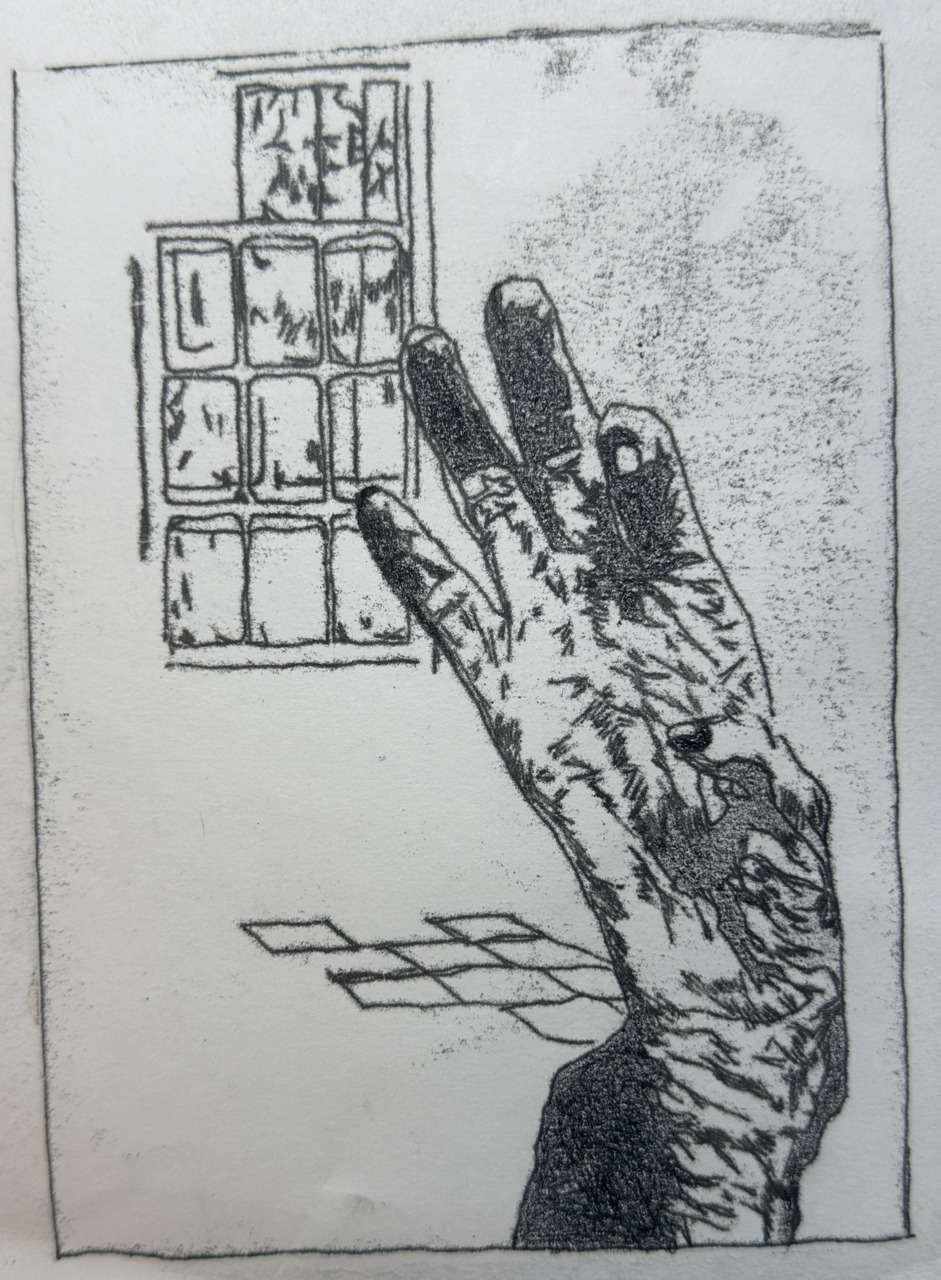
— Ничего, — торопливо ответил бывалый солдат. — По крайней мере, ничего заслуживающего упоминания.
— Обезьянья лапка? — с любопытством спросила миссис Уайт.
— Ну, это из области, которую называют магией, — равнодушно сказал старший сержант.
Трое его слушателей подались вперед. Гость рассеянно поднес к губам пустую рюмку и вновь поставил. Хозяин наполнил ее.
— На вид, — произнес Моррис, шаря в кармане, — это просто обычная маленькая высушенная лапка обезьяны.
Он достал что-то из кармана. Миссис Уайт отпрянула с гримасой, но ее сын, взяв лапку в руки, с интересом ее рассматривал.
— А что в ней особенного? — мистер Уайт, взял лапку из рук сына, осмотрел ее и положил на стол.
— Старый факир наложил на нее заклятие, — ответил его собеседник. — Он был святой человек. Он хотел показать, что судьба управляет жизнью людей, и всякий, кто попытается вмешаться в ее промысел, обязательно пожалеет об этом. По этому заклятию трое разных людей могут получить от нее исполнение трех своих желаний.
Его слова были так впечатляющи, что слушатели сразу посерьезнели.
— Ну, а что же Вы не загадали ей свои три желания, сэр? — поинтересовался Герберт Уайт.
Старый солдат взглянул на него, как на юнца-выскочку, с высоты своих лет. — Я загадал, — тихо промолвил он, и багровое лицо его побледнело.
— И она действительно исполнила все три? — спросила миссис Уайт.
— Да, — сказал он, и его крепкие зубы стукнули о стакан.
— А кто-нибудь еще загадывал ей желания? — поинтересовалась старая леди.
— Первый хозяин загадывал, — был ответ. — Не знаю, какие были первые два, но третье было — умереть… Вот так она мне и досталась.
Тон его был так мрачен, что группа на некоторое время погрузилась в молчание.
— Но, если ты уже получил исполнение всех трех желаний, Моррис, она ведь больше не нужна тебе, — сказал хозяин. — Для чего же ты ее хранишь?
Моррис покачал головой.
— Все фантазии, — медленно произнес он. — Я собирался было продать ее, но, думаю, не стоит этого делать. Она уже достаточно принесла зла. Да никто, пожалуй, и не купит. Многие думают, что это все сказки, а кто думает иначе — те хотят сперва испытать, а уж потом заплатить.
— А если загадать ей еще три желания, — хозяин бросил острый взгляд на гостя, — они могут исполниться?
— Не знаю, право, — был ответ.
Сержант взял лапку двумя пальцами и бросил в огонь. Уайт, слабо вскрикнув, наклонился и выхватил ее.
— Дай ей сгореть, так будет лучше, — мрачно заметил солдат.
— Если она не нужна тебе, Моррис, отдай мне.
— Ни за что, — ответил его друг. — Я ее бросил в огонь. Если ты оставишь ее себе, не проклинай меня за это. Лучше сожги, будь разумным человеком.
Его собеседник только отрицательно покачал головой, внимательно осматривая новое приобретение. — А как ты это делаешь? — спросил он.
— Держишь ее в правой руке и загадываешь вслух, — сказал сержант. — Но я предупредил тебя о последствиях.
— Звучит весьма интригующе, — сказала миссис Уайт, поднимаясь и накрывая на стол. — Как насчет того, дорогой, чтобы пожелать мне четыре пары рук?
Муж вынул талисман из кармана, и все трое рассмеялись, а старый солдат с выражением тревоги на лице схватил его за руку.
— Если уж ты очень хочешь чего-нибудь пожелать, — глухо произнес он, — то попроси что-нибудь разумное.
Мистер Уайт небрежно сунул лапку в карман и приставил стулья к столу, приглашая друга ужинать. В суете талисман был почти забыт. После ужина все трое сидели, слушая невыдуманные истории гостя о приключениях в Индии.
— Если рассказ об обезьяньей лапке не более правдив, чем все эти истории, — сказал Герберт, когда дверь за гостем закрылась, — то не стоит воспринимать это всерьез.
— Ты дал ему что-нибудь за нее, отец? — спросила миссис Уайт.
— Пустяк, — сказал тот, слегка покраснев. — Он не хотел брать, да я упросил. Он опять уговаривал меня выбросить ее вон.
— А почему бы и нет? Мы ведь мечтаем стать богатыми, знаменитыми, счастливыми? Хотим стать императором, а? Тогда уж твоя душенька будет довольна… — издевался несносный Герберт.
Мистер Уайт достал лапку из кармана и посмотрел на нее.
— А ведь я, действительно, не знаю, чего пожелать, — медленно произнес он. — Кажется, у меня есть все, чего можно хотеть.
— Кроме ремонта дома, не так ли? Этого тебе не хватает для счастья? — Герберт положил руку ему на плечо. — Ну, так пожелай себе фунтов двести, как раз хватит.
Отец, виновато улыбаясь, взял талисман в правую руку, а сын с торжественным видом, подмигнув матери, сел за пианино и взял несколько выразительных аккордов.
— Я желаю двести фунтов, — отчетливо произнес мистер Уайт.
В ту же секунду он громко вскрикнул и бросил лапку на пол. Жена и сын бросились к нему.
— Она пошевелилась! — говорил старик, с отвращением и страхом глядя на лежащий на полу предмет. — Когда я говорил, она извивалась у меня в руке, как змея!
— Это все твои фантазии, отец, — обратилась к нему встревоженная жена.
Он покачал головой.
— Ничего страшного, конечно, не случилось, но это было неприятно.
— Однако я что-то не вижу денег, — заявил сын, подняв лапку с пола и положив ее на стол, — и готов спорить, что никогда их не увижу.
Они вновь сели у огня, мужчины докуривали трубки. Ветер за окнами дул сильнее обычного, хозяин нервно вздрагивал, когда дребезжала дверь наверху. Необычная подавленность овладела всеми. Наконец старики поднялись, чтобы идти спать.
— Думаю, вы найдете деньги в большом кошельке, привязанном к кровати, — сказал Герберт, желая им доброй ночи, — и нечто ужасное, скрывающееся на шифоньере, будет глядеть, как вы раскладываете их по карманам.
II
В свете яркого зимнего утра за завтраком Герберт высмеивал свои вчерашние страхи. В комнате витал дух какой-то прозаической уверенности, которого накануне вечером не было; пыльная, потертая лапка была брошена на буфете с небрежностью, выдававшей неверие в ее сверхъестественные способности.
— Думаю, старые солдаты все похожи, — говорила миссис Уайт. — И как мы только могли слушать всю эту чепуху? Да и могут ли сбываться желания в наше время? Ну, каким, например, образом эти двести фунтов вдруг свалятся на тебя, отец?
— Упадут ему на голову с неба, — сказал легкомысленный Герберт.
— Моррис говорил, все происходило так естественно, что можно было приписать это совпадению.
— Ну ладно, главное — не трогайте денег до моего прихода, — сказал Герберт, поднимаясь из-за стола. — Я боюсь, отец, что они сделают тебя жадным и злым и тогда нам придется отнять у тебя право собственности.
Мать рассмеялась, проводила сына до дверей, проследила глазами, как он пошел по дороге, и вернулась к столу, счастливая сознанием легковерности своего мужа. Однако это не мешало ей бежать к двери на каждый стук и подшучивать над отставными военными, имеющими привычку к праздной болтовне в хорошей компании. Перед обедом почтальон принес счет от портного.
— Герберту будет что сказать по этому поводу, когда он вернется, — заметила она, когда они сели обедать.
— Но все-таки, — ответил мистер Уайт, наливая себе пива, — эта штука пошевелилась в моей руке, могу поклясться.
— Да тебе показалось, — возразила старая леди.
— Нет, я видел, я ничего не придумываю… А, кстати, в чем дело?
Жена не ответила. Она наблюдала за странными маневрами человека, который подошел к дому и, глядя на него, как будто не мог решиться войти. Вспомнив о деньгах, она отметила про себя, что мужчина хорошо одет, на нем новая шелковая шляпа. Три раза он останавливался у калитки, как бы раздумывая, проходил мимо, затем возвращался; наконец, вдруг решившись, открыл калитку настежь и пошел по тропинке к дому. Миссис Уайт отвела руки за спину, развязывая тесемки передника, сняла его и убрала с глаз.
Она провела визитера, казавшегося не вполне здоровым, в комнату. Он потерянно смотрел на старую леди и слушал ее извинения по поводу того, как выглядит комната, и пальто мужа — «этот плащ, в котором он обычно работает в саду». Затем она подождала (с толикой терпения, какая доступна женщинам), когда вошедший сам что-нибудь скажет. Но он молчал.
— Я… меня попросили зайти к вам, — сказал он наконец, наклонился и снял шерстяную нитку с брюк. — Я от компании Мо и Меггинс.
Старая леди вздрогнула.
— Что-нибудь случилось? — спросила она, не дыша. — Что-нибудь с Гербертом? Что? Что?..
Вмешался муж: — Ладно, мать, — сказал он. — Сядь и не делай поспешных выводов. Вы ведь не с дурными вестями, сэр, не правда ли? — Он испытующе посмотрел на мужчину.
— Мне очень жаль, но… — начал визитер.
— С ним случилось несчастье? — потребовала мать.
Мужчина кивнул.
— Да, — тихо произнес он. — Большое несчастье. Но ему уже не больно.
— О, слава Богу! — воскликнула старая женщина, сжав руки. — Слава Богу! Слава…
Вдруг она осеклась: до нее дошел зловещий смысл сказанного, и она увидела подтверждение своим страхам в вытянувшемся лице незнакомца. Она справилась с дыханием и, повернувшись к мужу, положила дрожащую руку на его ладонь. Установилось молчание.
— Его затянуло в машину, — тихо сказал пришедший.
— Затянуло в машину, — повторил мистер Уайт. — Ох…
Он сидел, глядя пустыми глазами в окно, и, взяв руку жены обеими ладонями, сжал ее, как в те далекие годы их молодости, лет сорок назад.
— Он — все, что оставалось у нас, — сказал он, мягко повернувшись к визитеру. — Это тяжело…
Мужчина, кашлянув, поднялся, подошел к окну. — Фирма поручила мне выразить Вам искреннее соболезнование в Вашей потере, — сказал он, глядя под ноги. — Прошу Вас, поймите, я просто служащий, исполняющий поручения.
Ответа не было; лицо старой женщины было белым, глаза широко раскрыты, дыхания не было слышно; на лице мужа было выражение, с каким его друг сержант мог бы идти на свою первую боевую операцию.
— Мне поручено передать, что Мо и Меггинс не берут на себя ответственности за происшедшее, — продолжал пришелец. — Но, учитывая заслуги Вашего сына, они хотят вручить Вам некоторую сумму денег в компенсацию ущерба.
Мистер Уайт выпустил руку жены и поднялся на ноги, глядя на визитера с ужасом. Его сухие губы едва слышно прошептали: «Сколько?»
— Двести фунтов, — был ответ.
Уже не слыша вскрика жены, старик слабо улыбнулся, вытянул руки вперед, как слепой, и упал на пол без чувств.
III
На большом новом кладбище, около двух миль к югу, старики похоронили своего усопшего и вернулись в свой темный и молчаливый дом. Все произошло так быстро, что они едва ли осознавали, что все уже закончилось, и пребывали в ожидании, как будто должно было случиться что-то еще, что могло бы облегчить их ношу, слишком тяжелую для двух старых сердец. Но дни проходили, и ожидание сменялось смирением, безнадежным и апатичным. Иногда они почти не разговаривали: им не о чем стало говорить, и их дни были долгими и скучными.
Примерно через неделю после этого старик, проснувшись ночью, вдруг обнаружил, что он один. В комнате было темно, от окна доносились сдавленные рыдания. Он сел в постели и прислушался.
— Вернись, — сказал он нежно. — Ты простудишься.
— Моему мальчику там еще холоднее, — отвечала старая женщина, продолжая всхлипывать.
Он начал засыпать. Постель была теплой, в глазах были остатки сонных видений. Он зевнул и погрузился в сон. И вдруг услышал вопль, от которого, вздрогнув, подскочил.
— Обезьянья лапка! — кричала она дико. — Обезьянья лапка!
— Где? Где она? Что такое?
Женщина подошла к мужу через комнату.
— Дай мне ее, — тихо попросила она. — Ты ничего с ней не сделал?
— Она лежит в гостиной на каминной полке, — ответил он, недоумевая. — А зачем тебе?
Она плакала и смеялась одновременно — и вдруг, нагнувшись, поцеловала его в щеку. — Я ведь только что вспомнила, — говорила она в истерическом возбуждении. — И как это я не подумала раньше? И почему ты сам не вспомнил о ней?
— О чем ты, не понимаю? — вопросил он.
— О двух желаниях, которые остались, — живо ответила она. — У нас же было только одно.
— Неужели этого мало? — в гневе потребовал он.
— Нет! — закричала она с торжеством. — Мы пожелаем еще одно. Сойди вниз и возьми ее, быстрей, и пожелай, чтобы наш мальчик снова ожил!
Муж сел в постели, руки его тряслись.
— Да ты с ума сошла, Боже мой! — закричал он.
Она умоляла: — Возьми ее, быстрей, и пожелай — о, скорее, мой мальчик, мой сын!
Муж чиркнул спичкой и зажег свечу.
— Ложись и успокойся, — сказал он дрожащим голосом, — ты сама не знаешь, что говоришь.
— Наше первое желание сбылось, — сбивчиво говорила старая женщина, — почему бы ей не исполнить и второе?
— Это было совпадение, — пробормотал старик.
— Возьми лапку и попроси! — в исступлении требовала она, таща его к двери.
Мистер Уайт сошел вниз, в темноту, на ощупь отыскал путь в гостиную, нащупал каминную полку… Талисман был на месте, и его ужасом пронзило ощущение, что его еще не высказанное желание может прямо сейчас перенести его сына сюда — в эту темную комнату, выход из которой он вдруг потерял. Он задохнулся от ужаса; обливаясь холодным потом, на ощупь обошел стол и пошел вдоль стены, пока не оказался в коридоре, неся в руке зловещий предмет.
Миссис Уайт была бледна, она ожидала; вид у нее был до того неестественный, что он испугался.
— Попроси у нее! — громко закричала она.
— Это дурацкая затея, и вообще этого делать нельзя, — он пытался возражать.
— Попроси!! — требовала жена.
Он поднял руку: — Желаю, чтобы мой сын снова был жив.
Талисман упал на пол; старик гадливо оттолкнул его ногой. Дрожа, он сел в кресло, а старая женщина, сверкая глазами, подошла к окну и подняла штору.
Мистер Уайт сидел, поглядывая на фигуру старой леди, смотревшей в окно, пока не озяб. Огарок свечи, горевший ниже края китайского подсвечника, отбрасывал пульсирующие тени на стены и потолок, пока наконец, ярко вспыхнув, не угас совсем. Старик, с невыразимым чувством облегчения от неудачи талисмана, перебрался в постель. Через минуту-другую жена в молчании и унынии присоединилась к нему.
Оба лежали молча, чутко прислушиваясь к тиканью часов. Время от времени поскрипывала старая лестница, писклявая мышь шумно скреблась за стеной. Тягостно было лежать в темноте, и старик, собравшись с духом, взял со стола спички и, зажегши одну, пошел вниз по лестнице.
На середине лестницы спичка догорела, и он остановился зажечь другую. Как раз в этот момент снаружи у дверей раздался спокойный и тихий, но совершенно отчетливый стук.
Спички выпали из рук старика. Он стоял без движения, не дыша, пока стук не повторился. Тогда он повернулся и бросился обратно в спальню, плотно закрыв за собой дверь. По дому пронесся третий стук.
— Что это? — встрепенулась старая женщина.
— Крыса, — ответил он дрожащим голосом. — Просто крыса. Она встретилась мне на лестнице.
Жена села в постели, прислушиваясь. Громкий стук вновь пронесся по дому.
— Герберт! — вскричала она. — Это наш Герберт!
Старая миссис Уайт рванулась к двери, но муж опередил ее и, схватив за руку, крепко сжал. — Что ты собираешься делать? — хрипло прошептал он.
— Там мой мальчик. Мой Герберт!.. — кричала она, вырываясь. Я и забыла, что это в двух милях отсюда. Зачем ты держишь меня? Пусти. Я открою дверь.
— Ради всего святого, не впускай это в дом! — дрожа, закричал старик.
— Ты боишься своего собственного сына! — кричала она, сопротивляясь. — Пусти меня! Я иду, Герберт, я иду!..
Стук повторился еще раз и еще. Старая женщина отчаянным усилием вырвалась из его рук и выбежала из комнаты. Муж устремился следом, крича. Он услыхал, как она откинула дверную цепочку и начала выдвигать засов. Раздался ее умоляющий голос:
— Этот засов! Спустись, прошу, я сама не достаю.
Ее муж в это время, стоя на четвереньках, лихорадочно искал на полу обезьянью лапку. Только бы найти ее раньше, чем это войдет в дверь! Стуки повторялись, сотрясая дом; он услыхал скрип стула, который жена поставила в коридоре против двери. Вот уже засов медленно выходит из гнезда… и в эту секунду он наконец нашел то, что искал, и, не слыша себя, выдохнул свое третье и последнее желание.
Стук внезапно прекратился, и только эхо его все еще звучало в доме. Он слышал, как отодвинули стул и открыли дверь. Холодный ветер ворвался на лестницу, и долгий вопль разочарования и отчаяния, который издала жена, придал ему мужества, чтобы сбежать вниз к двери, а потом и к калитке.
Дорога, освещенная уличным фонарем против дома, была тиха и пустынна.
* * *
Леонард Меррик
Кукла в розовом шёлковом платье
Как мне написать четвертый акт моей пьесы, глядя на эту нелепую вещь? На эту куклу в розовом шелковом платье, которая умеет ходить и говорить, и даже петь арии из опер! И стоит целое состояние! Но почему старый драматург играет в куклы?
Ее доставили ко мне в коробке час тому назад, и я, распаковав ее, убедился, что она все это действительно умеет, — и это еще раз напомнило мне о том, что женщины — престранные существа.
Да, это так, и эта игрушка наводит меня на мысль о вполне конкретной женщине, которая однажды обратилась ко мне за помощью, а затем, завладев всем моим вниманием, — вот чертова кукла! — напрочь лишила меня надежды.
…Это случилось в то время, когда парижане бились, чтобы попасть на мои спектакли, когда имя Поля де Варенна гремело. Мода, однако, проходит. Сейчас меня мало ставят, вперед вырвалась молодежь… Но в те дни я был велик, я был мастер сцены.
Но послушайте! Было утро весеннего дня, я сидел в своей студии возле открытого окна, вдыхая аромат сирени. Мой секретарь, войдя, сказал:
— Мадемуазель Джейн Лорен спрашивает, можно ли видеть Вас, месье.
— Кто это — мадемуазель Джейн Лорен? — осведомился я.
— Она актриса, по поводу работы, месье.
— К сожалению, я очень занят. Пусть напишет.
— Она уже писала Вам раз сто. Письма Джейн Лорен — один из постоянных источников наполнения нашей корзины для бумаг.
— Тогда скажите ей, что я, к сожалению, ничем не могу ей помочь. Боже! Неужели они думают, что мне больше нечего делать, как проводить душеспасительные беседы с девицами? Вообще, как ты решился доложить мне о ней? Она что, хорошенькая?
— О да, месье.
— И молода?
— Да, месье.
Я заколебался. Сказать по правде, я поддался сочувствию. Может быть, виновата была сирень: сирень и хорошенькая девушка — такое же естественное сочетание, как кофе и сигарета.
— Пусть войдет! — приказал я.
Я сел за стол и взял ручку.
— Месье де Варенн… — она в волнении замялась на пороге комнаты.
Мой секретарь ничего не смыслит в девушках. Девушку нельзя было назвать хорошенькой; она была либо обыкновенной, либо красивой. На мой взгляд, скорее, красивой, и я предвкушал приятно проведенные четверть часа.
— Я могу уделить Вам лишь минуту, мадемуазель, — сказал я.
— С Вашей стороны это очень любезно.
У нее был приятный голос.
— Присядьте, — сказал я помягче.
— Месье, я прошу Вас о помощи. Мне необходим шанс. Дайте мне его!
— Дорогая мадемуазель — э-э… — Лорен, — сказал я. — Понимаю Ваши трудности, но ведь я не менеджер и не могу дать Вам работу.
Она горько улыбнулась.
— Но Вы — де Варенн. Одно Ваше слово может «сделать» меня.
Я все не мог уловить ее возраст. Что-то около двадцати восьми, но по временам она выглядела гораздо моложе, а по временам — старше.
— Вы преувеличиваете мое влияние, как и многие другие актеры, с которыми я знаком. В этом кресле сидели сотни людей, и все они были уверены, что я могу их «сделать». Это заблуждение. Будьте благоразумны. Я вовсе не всесилен.
— Вы могли бы посмотреть меня в роли. Хоть Вы и «не менеджер», но любой менеджер ангажирует актрису, которую ему порекомендуете Вы, автор.
Я знаю, что к Вам обращаются сотни людей, что я — лишь одна из толпы; но, месье, если б Вы только знали, что это значит для меня! Без Вашей помощи я могу бесконечно стучаться в двери парижских театров, и мне никогда не отворят; я могу продолжать писать парижским менеджерам, не получая ответа. Не имея помощи, я буду продолжать сжигать свое сердце в провинции, пока не состарюсь и не устану!
Ее откровенность тронула меня. Я слышал подобные вещи так часто, что успел устать от этого, но эта девушка меня задела. Если бы у меня была хоть маленькая вакантная роль, я бы обязательно предложил ей…
— Повторяю, — сказал я, — как драматург я понимаю трудности артистической карьеры, но Вы как актриса не хотите понять мои. У меня сейчас нет никакой вакантной роли для Вас, и я не представляю себе, как бы я написал менеджеру или другому автору, рекомендуя ему (пусть даже на самую скромную роль) актрису, которой я совсем не знаю.
— Я не прошу скромную роль, — тихо произнесла она.
— Что же?
— Я прошу главную роль.
Я смотрел на ее бледное лицо онемев: нелепость ответа лишила меня речи.
— Вы в своем уме? — сказал я, вставая.
— Я произвожу впечатление безумной?
— Да, вполне. Сначала Вы говорите, что находитесь в самом низу, и в тот же миг хотите, чтобы я поднял Вас на самый верх! Либо Вы безумны, либо Вы просто — проходимка.
Она тоже поднялась, — казалось, готовая к поражению. Затем вдруг, с жестом совершенного отчаяния, рассмеялась сквозь слезы.
— О, да, да, я проходимка! — со страстью начала она. — Я расскажу Вам, какова я, месье де Варенн! Я училась актерскому мастерству с шести лет. Свои первые роли я играла на дорогах, в то время как мои более счастливые сверстники играли в детском саду. Когда мне исполнилось пятнадцать, мне стали доверять ведущие роли, и я должна была справляться с полудюжиной ролей в неделю, потому что меня били, если я не справлялась.
Я стала звездой, и не ради нескольких франков, которые мне платили, а из любви к своему искусству, к совершенству. Я могла часами ждать под дождем у дверей модных магазинов и парикмахерских, чтобы увидеть, как богатые леди выходят из своих экипажей и говорят с лакеями, — и я получала урок аристократических манер и бывала счастлива несказанно, хотя ноги мои болели и дождь промачивал насквозь мои лохмотья.
Я играла добрых женщин и дурных женщин, попрошаек и королев, домохозяек и проституток… Я родилась и выросла на сцене, я на ней страдала и голодала. Это — моя жизнь и моя судьба! — она всхлипнула. — Проходимка!..
Я не мог ее так отпустить. Эта девица заинтересовала меня: я поверил ей. Я стал ходить по комнате, размышляя.
— Присядьте, — сказал я наконец. — Вот что я могу сделать для Вас: я могу приехать в провинцию и посмотреть на Вашу игру. Когда очередной спектакль?
— У меня нет определенного плана.
— Жаль! Ну, когда будете играть в следующий раз, напишите мне.
— Да Вы забудете обо мне к тому времени, — она ломала руки, — или Ваш интерес испарится, или сама судьба не пустит Вас.
— Да почему же?
— Что-то говорит мне. Или Вы поможете мне сейчас, или — никогда. Мой шанс — сегодня! Месье, прошу Вас…
— Но сегодня я ничего не могу для Вас сделать: ведь я еще не видал Вашей игры.
— Я могу поучаствовать в репетиции Вашей пьесы.
— А если провалитесь? Вот так дураком я буду, убедив их взять Вас!
Слуга прервал наш разговор сообщением, что внизу меня ждет мой старый друг де Лаварден. И тут я сделал глупость. Когда я сказал мадемуазель Лорен, что наша встреча закончена, она так умоляла меня продолжить наш разговор после ухода моего посетителя, что я разрешил ей остаться и подождать.
Почему? Не знаю — я уже сказал ей все, что следовало, и даже больше. Наверно, она произвела на меня большее впечатление, чем я думал; у нее, безусловно, было безошибочное чутье, и она понимала, что если сейчас я ее вышлю, то мы больше никогда не встретимся. Я указал девушке на дверь в соседнюю комнату, а генерала де Лавардена принял в студии.
После своей отставки де Лаварден жил в своем шато на Сент-Вандрилл, и мы в последнее время редко виделись. Мы были однокашниками с колледжа, вместе начинали военную службу, и я был рад встрече.
— Как ты, дружище? Я и не знал, что ты в Париже.
— Я здесь всего сутки, — сказал он, — и при первой возможности зашел к тебе. — Скажи честно, я тебе не очень помешал? Я просил слугу не беспокоить тебя, если ты работаешь. Не стесняйся, скажи, если тебе некогда, я уйду!
— Ты мне нисколько не мешаешь, — заявил я, — положи шляпу и трость. Что нового? Как Джордж?
Джордж был капитан де Лаварден, его сын, молодой человек с прекрасными способностями, офицер, которому пророчили блестящую будущность.
— С ним все в порядке, — сказал он, чуть замешкавшись, — сегодня мы вместе обедаем. Я хотел бы пригласить и тебя, если ты можешь. Ты свободен?
— Сегодня вечером? Да, конечно, это будет замечательно.
Он снова взглянул на мой рабочий стол. — Но ты уверен, что не должен спешить вернуться к своим занятиям?
— Возьми сигару и не будь занудой. Надо ж такое придумать! Как ты попал в Париж?
— Приехал навестить сына. Между прочим, милый мой, я дьявольски озабочен!
Я удивился: — Но это не по поводу сына?
— Да вот, как раз о нем… Я хотел поговорить с тобой. Может быть, ты дашь мне совет. Джордж — мальчик, на которого я возлагал такие надежды, — голос его дрогнул, — Джордж связался с актрисой. Что ты на это скажешь?
— Джордж? А ты уверен?
— Да он и не скрывает этого. Он, дурень, собирается на ней жениться!
— Джордж хочет жениться на актрисе?
— Да, вот так!
— Милый мой старый дружище! — прошептал я.
— Ну, не диво ли? Я считал, что прекрасно знаю характер своего сына. И вдруг мой мальчик… Мальчик? Мужчина! Джорджу скоро тридцать — мужчина, каким можно гордиться, выдающийся в своей профессии, — вдруг теряет голову из-за какой-то актрисульки и собирается свести на нет всю свою карьеру!
— Но ведь совсем необязательно это означает конец карьеры.
— Мы же не в Англии! Во Франции не принято приличным людям брать в жены актрис! Я могу говорить с тобою свободно: ты сам вращаешься в среде этих людей, ведь ты пишешь для сцены. Но ты ведь не из этой породы!
— А ты пробовал с ним говорить?
— Пробовал.
— Ну и что?
— Представь себе, он сказал: «К несчастью, она меня не любит».
— Так, может, и нет никакой опасности?
— А можно ли быть уверенным, что ее «упорство» — не уловка, что оно не скрывает готовность поддеть его на крючок? Он заявил, что не устанет добиваться ее. Прелестно! Честь семьи в безопасности, пока эта авантюристка не даст своего согласия — согласия! — принять его предложение!
И что я могу сделать? Только задержать женитьбу, не дав своего согласия. Но предотвратить ее я не могу, он принудит меня. Ах, если бы я мог разобраться с нею — я бы не стал церемониться! Любой ценой!
— А кто она?
— Да никто. Он говорит, что ее имя мало кому известно. Думаю, ты и не слыхал о ней. Но ты мог бы разузнать, что это за женщина.
— Я сделаю все, что могу, будь уверен. Она в Париже?
— Сейчас — да.
— Ты знаешь, как ее зовут?
— Джейн Лорен.
У меня отвисла челюсть. — Как?!
— Так ты ее знаешь?
— Она здесь, у меня!
— Где?
— В соседней комнате. Обратилась ко мне по делу.
— Бог мой! Это интересно!
— Это удача. Я впервые увидел ее сегодня.
— Какова она с виду?
— Ты увидишь ее с минуты на минуту. Она пришла просить у меня помощи в ангажементе. Сейчас я ее приглашу и скажу ей, кто ты.
— А как я буду с ней говорить?
— Предоставь это мне.
Я пересек площадку и открыл салонную дверь. В комнате было немало иллюстрированных журналов, но она не занялась ни одним; она сидела перед копией «Джоконды», пытаясь изобразить на лице подобие загадочной улыбки: это указывало на актрису, никогда не упускающую случая поработать над собой.
— Войдите, пожалуйста.
Она последовала за мной, а мой друг смотрел на нее во все глаза.
— Этот джентльмен — генерал де Лаварден.
Она поклонилась — слегка, с достоинством. Да, она недаром изучала манеры аристократок, стоя под дождем.
— Мадемуазель, когда слуга объявил о приходе генерала, Вы слышали имя. И не сказали мне, что знакомы с его сыном.
Она прошептала что-то невнятное.
— И когда Вы умоляли меня Вам помочь, Вы почему-то умолчали о том, что собираетесь вступить в брак, будучи в котором Вам придется оставить сцену.
Прощайте же!
— Но я не стремлюсь к браку, — прошептала Джейн, сильно побледнев.
— Я все знаю. Рано или поздно Вы выйдете замуж, и это положит конец Вашей артистической карьере. У меня нет ни времени, ни желания помогать женщине, которая валяет дурака. Все. Я вас больше не задерживаю.
— Но ведь я отказала ему. Клянусь честью! Можете спросить у него. Это факт.
— Однако Вы продолжаете видеться с ним, — вмешался де Лаварден. — Он с Вами каждый день! Это не так? Если Вы искренне отказали ему, тогда почему Вы так непоследовательны? Чего Вы хотите от него?
— Месье, — ответила она со вздохом, — я слишком слаба и скучаю, когда он уходит.
— А, так Вы это признаете? Пожалуй, Вы все-таки любите его?
— Нет, месье, — отвечала она, подумав, — я его не люблю, и мой отказ совершенно искренен. Я понимаю, трудно поверить: чтобы женщина моего круга отказала такому мужчине! Но я никогда не выйду замуж, если брак встанет на пути моего тщеславия. Я не принесу в жертву свое искусство: сцена мне слишком дорога. А значит, я его не люблю, потому что, когда женщина любит, ее избранник кажется ей дороже всего остального.
Де Лаварден вздохнул. Я почувствовал в этом проявление слабости.
— Но ситуация эта весьма неблагоприятна для моего сына, — заявил он. — Я вижу Ваше разумное решение быть актрисой, посвятить себя своей карьере; но Вы одновременно и отказываете ему, и воодушевляете его. Если вы поженитесь, это разрушит его жизнь и испортит Вашу. Так дайте же ему шанс позабыть Вас! Выгоните его. Зачем вы встречаетесь?
Она вздохнула: — Я знаю, я неправа.
— Это противоестественно, — сказал я.
— Нет, месье, все это не совсем так, и я объясню почему. Джордж единственный человек за всю мою жизнь, который понял, что актриса, борющаяся за свое призвание, может иметь душу порядочной женщины. До нашей с ним встречи ни один мужчина не говорил со мною вежливо, кроме как на сцене, ни один с уважением не жал мне руки, кроме как в огнях рампы.
Мы впервые встретились в провинции. Менеджер привел его ко мне за кулисы. Во всем, что он говорил и делал, Джордж отличался от других. Мы долгие месяцы были друзьями, и лишь потом он признался, что любит меня. Его дружба была мне просто подарком от Господа, осветившим мою несчастную судьбу. Расстаться с ним и никогда больше не встречаться было бы ужасно для меня!
Я подумал, что если она не влюблена в него до сих пор, то очень близка к этому, и любой пустяк может послужить толчком. Де Лаварден, похоже, имел такое же мнение.
— Но ведь Вы сами признаете, что ведете себя нелогично! — воскликнул я. — Для Вас это нормально, Вам достаточно дружбы, и Ваша карьера при этом не страдает. А он? Он-то ведь ищет Вашей любви и при этом нарушает свой долг. Для него провести жизнь, вздыхая по Вас, — чудовищно, а жениться на Вас — это конец. Если он Вам симпатичен, будьте же справедливой к нему, отпустите его! Скажите ему, чтобы больше не приходил к Вам.
— Да он никогда и не бывал у меня.
— Ну хорошо, запретите ему обеды, поездки, букеты!
— А я и не позволяю ему тратиться на меня. Я не такая.
— Да мы Вас и не виним, мадемуазель. Наоборот, взываем к Вашему доброму сердцу. Будьте решительны и смелы! Скажите ему: прощай!
— Но это заставит меня жестоко страдать, — простонала она.
— Зато пойдет на пользу Вашему другу. А чем больше Вы будете страдать, тем лучше будете играть. Актриса ведь и обязана страдать.
— Месье, я выстрадала свою устойчивость к боли.
— Ну, есть ведь и еще кое-что, кроме дружбы, — ваши будущие планы, например.
— О чем Вы?
— Ну, пока я не могу обещать Вам что-то определенное, как Вы сами знаете, но ведь я собираюсь оказать Вам содействие…
Де Лаварден снова вздохнул, на этот раз «от чувств». Я взглянул на него, грозно сдвинув брови.
— Да и что толку мне запрещать ему видеться со мной? — возразила она. — Где бы я ни играла, он всегда приходит посмотреть. Я не могу убить его любовь тем, что откажусь от этого сопровождения. Да он и не согласится. В конце концов я снова встречу его вечером, выходя из театра.
И это было правдой.
— Если умная женщина хочет дать мужчине отставку, она всегда знает, как это сделать, тем более если эта умница еще и актриса, — сказал я. — Вы могли бы поговорить с ним так, чтобы он больше не захотел Вас видеть. Такие случаи известны.
— Как! Вы хотите, чтобы я заставила его меня презирать?
— Да, хорошо бы!
— Чтобы его уважение ко мне сменилось ненавистью?
— Это было бы здорово!
— Вы предлагаете мне фальсифицировать себя, деградировать?
— Да, для блага Вашего героя!
— Никогда я не пойду на это! — она вспыхнула. — Вы требуете слишком много. Что Вы такого сделали для меня, чтобы я жертвовала собой для Вашего удовольствия? Я умоляла Вас о помощи — и в ответ получила пустые фразы. Я плакала в порыве отчаяния, а Вы мне отвечали, что «постепенно, когда-нибудь, в далеком будущем» вы вспомните, что я есть. Я не стану делать этого для Вас — и сохраню себе друга!
— Ваше красноречие неуместно, — сухо возразил я. — В таких условиях всякая благородная женщина поступит так, как я рекомендую, вовсе не ради меня или генерала де Лавардена, а ради своего друга. Вы хотите «сохранить себе друга»? Ну что ж! Это лишь свидетельствует о том, что Вам безразлично его благополучие и Вы слишком любите себя, чтобы потерять его.
Она закрыла лицо руками: на глазах были слезы. Мы снова обменялись взглядами с генералом. Я продолжал:
— Вы сказали, что мои слова пустые. Это незаслуженный упрек. Я обещал только то, что мог, и имел в виду именно то, что сказал. Я не могу рисковать своей репутацией, рекомендуя Вас на роль и при этом совершенно не зная Ваших способностей, но, если Вы проявите добрую волю, повторяю: я посещу Ваш очередной спектакль.
— А что потом?
— Потом — если мне понравится Ваша игра — Вы получите хорошую роль.
— Ведущую?
— Этого я не обещаю. Но хорошую роль, и в Париже.
— Вы обещаете это?
— Да, если останусь доволен Вашей игрой.
— В моем следующем, ближайшем спектакле?
— Да, в Вашем ближайшем представлении.
Она помолчала, раздумывая. Молчание затягивалось, и мне уже казалось, что никто из нас троих не заговорит. Я взял сигару и молча предложил коробку де Лавардену. Он отказался, не глядя на меня: он смотрел на женщину.
— Ладно, — простонала она наконец. — Я согласна!
— Вот и хорошо! Умница!
— Вы требуете одного: чтобы капитан де Лаварден прекратил свое искательство?
— Да, только этого.
— Договорились. Я знаю, чем можно его оттолкнуть. И сделаю это сегодня же вечером. Но вам, джентльмены, придется привезти его ко мне домой. Сегодня — в девять вечера. Адрес он знает.
Она пошла к двери.
Де Лаварден в три прыжка догнал ее и схватил за руки.
— Мадемуазель! — прошептал он, — у меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Я отец, я люблю своего сына, но — Боже! — клянусь душой, если бы все было по-другому, я был бы счастлив и горд назвать Вас своей дочерью!
О, как она умела поклониться: сколько достоинства было в ее худенькой фигурке!
— До свидания, джентльмены.
У-фф, наконец-то! Мы оба упали в кресла.
— Поль, — вздохнул он, обращаясь ко мне, — а ведь мы были с ней жестоки!
— Я знаю. Но теперь тебе легче?
— Я чувствую себя другим человеком. Интересно, что она собирается ему сказать? Да, я хочу поскорее покончить с этим. Но как ты себе представляешь, чтобы я предложил навестить ее? Лучше бы это исходило от тебя. А вдруг он не захочет взять нас с собой?
— Он нас возьмет, не сомневайся, и будет рад случаю! Ура! Ура! Ура! — Я прыгал и хлопал его по спине. — Друг мой, да если бы эта женщина не согласилась и вышла бы замуж за Джорджа, это была бы национальная катастрофа!
— В каком смысле? — генерал побагровел.
— Я думаю, — я боюсь даже сказать, что я думаю, я боюсь думать об этом! — Я ходил по комнате, борясь с собой. — Только однажды, под голубой луной, в июле рождается девочка с талантом, как благословение Всевышнего — и ее гений делает эпоху, ее имя входит в историю театра. И если такой театрал, как я, находит это сокровище — старый ты вояка! — и использует ее гений в своей работе, то он чувствует себя всеми тремя египетскими фараонами вместе — и спорит с пирамидами о бессмертии!..
Мое возбуждение насторожило генерала: — Ты думаешь, она гениальная актриса?
— Я не смею поверить в это. Я отказываюсь верить, потому что никогда не видел голубых лун. Но — я поражен!
Мы обедали у Вуазена. Надо было как-то подготовить Джорджа к дальнейшим событиям, и я сказал ему: «Надеюсь, ты не в обиде на отца за то, что он все рассказал мне: мы ведь с ним старые друзья».
Мы перешли к теме очень легко. Было видно, что эта девушка для Джорджа — все. Он говорил об этом спокойно и честно. Я притворялся, что сочувствую его матримониальным мечтам, а сам ощущал себя Иудой.
— Я ведь художник, — говорил я. — Для меня разница в общественном положении вообще гораздо менее важна, чем, например, для твоего отца.
— В самом деле, месье, — храбро отвечал Джордж, — мадемуазель Лорен заслуживает всяческого уважения. Если бы она согласилась на мое предложение, то любой знающий ее человек счел бы меня счастливцем. Пусть ей недостает образования, чтобы спорить с профессорами, и светских манер, но это интеллигентная, чистая, прекрасная девушка.
Мне вообще в этот вечер все удавалось легко. Когда мы покончили с ликером, я вдруг воскликнул: «А поехали к ней! Веди нас, дружище!» Бедняга Джордж сначала остолбенел, потом попытался отклонить мое предложение, но мысль о том, какое впечатление может произвести на нас его избранница, приводила его в восторг.
— Но я никогда к ней не заходил, да это и неудобно в такой час.
— Да ну, среди артистов! Уверяю тебя, с моей визитной карточкой нас везде пропустят!
Простак попался в ловушку. В полдевятого мы поехали в карете на тот берег. Карета остановилась перед невзрачным доходным домом на кривенькой улочке.
— Мадемуазель Лорен не зарабатывает больших денег, и она честная девушка.
Это было хорошо сказано.
Нас проводили на пятый этаж. В ответ на наш настойчивый стук выглянула женщина неопределенного возраста, сказавшая нам, что мадемуазель нет дома. Я понял: мы совершили ошибку, приехав слишком рано. Женщина была совсем не готова к нашему визиту и не собиралась нас впускать. Да, это был плохой сценический ход.
— Мадемуазель скоро вернется? — спросил я.
— Понятия не имею.
— Мы подождем, — сказал я, и нас неохотно провели в комнату, в которой только и было, что лампа под рваным абажуром да бутылка бренди. А я-то принял было эту старую опойку за хозяйку дома!
Уже более дружелюбно она произнесла: — Жаль, Джейн не знала, что вы придете.
При упоминании имени Джейн Джордж вздрогнул.
Я в растерянности спросил: «Мадемуазель — Ваша подруга?»
— Подруга? Это моя дочь. — Она уселась.
В этом был несомненный промысел. Девушки не было дома!
Вдруг меня осенило. Я понял: она хотела показать своему обожателю, какая теща его ожидает. Открытие должно было его остудить.
Джордж был явно смущен. Генерал глубоко вздохнул с удовлетворением: «Слава Богу, мой сын спасен!»
— Не хотите ли глоток вина, джентльмены?
— Нет, благодарю.
Она приложилась к бутылке и, казалось, совсем позабыла о нашем присутствии. Все молчали. Я размышлял, стоит ли нам здесь оставаться. Но тут женщина разговорилась. Она говорила о дочери, по пути выдавая тайны собственного прошлого.
У меня нет предрассудков, но эта женщина оглушила меня. Тот, кто решился бы жениться на ее дочери, должен был быть безумцем. А она продолжала болтать, прихлебывая из стакана. Жесты ее были вульгарны, но самое ужасное было то, что в отталкивающем облике женщины проскальзывало что-то от Джейн. Думаю, Джордж тоже это заметил. Мысль о наследственности ужасала. Мы слушали и видели Джейн, побитую жизнью, постаревшую на тридцать лет, — ту Джейн, какой она может стать!
Кошмар! Выбрать себе невесту с такой кровью в жилах — невесту из пьянчужек!
— Пойдем отсюда, Джордж, — прошептал я. — Будь мужествен. Ты забудешь ее. Пойдем же.
Я видел, что и ему трудно все это выносить. Но тут существо услышало мой шепот, и в его тупых бесцветных глазах блеснула искра разумения.
— Что? Подождите-ка! Так среди вас — тот самый негодяй, что хочет жениться на ней? Ах! А я-то хороша! А вы — явились сюда шпионить?! — Она повернулась ко мне: — Это Вы?!
Я, конечно, говорил больше других, но почему она избрала для своего нападения именно меня?
Она яростно кинулась ко мне и, приблизив свое лицо к моему, прошептала так тихо, что услыхать мог я один: «Как вам моя игра?»
Так это Джейн! Я был потрясен. В следующий миг она была опять в роли, на этот раз нападая на Джорджа.
Я выхватил из кармана карточку и написал на ней пять слов.
— Когда вернется Ваша дочь, отдайте это ей.
В записке было: «Я напишу для Вас звездную роль!»
Она вмиг ухватила написанное взглядом, но, клянусь, в глазах ее ничего не отразилось. Она — актриса — играла характерную роль и не вышла из нее, даже прочтя слова, которые имели силу поднять ее из безвестности к славе.
— Так ей и надо, эгоистке! Пусть, пусть! Мне не за что ее благодарить. Поступайте с нею, как хотите, я вам мешать не буду!
— Мадам Лорен, — строго и отчетливо произнес Джордж, и его ответ гулко отдался от стен комнаты, — я никогда не восхищался Джейн, не любил и не жалел ее так, как сейчас, когда я убедился, что у нее — нет матери.
Мы, все трое, стояли столбом. Первой пошевелилась она. Я понял, что сейчас произойдет. Она разрыдалась.
— Это я, Джейн! — И я люблю Вас! Я думала, что люблю театр больше, но я ошиблась! — Моя карточка упала на пол. — Простите меня! Я делала это ради Вас. Я знаю: это жестоко, это стыдно… Друг мой, если моя любовь не принесет Вам бесчестия, я готова быть Вашей женой! В мире не найдется женщины, которая любила бы сильнее — в моем сердце нет места ни для чего другого!
Они обнялись. Де Лаварден, потрясенный внезапным открытием, вытащил меня из комнаты. Он всхлипывал, растроганный.
— Какой ужас, — сопел он.
— Это восхитительно!
— Такая женщина — одна на миллион.
— Она великая актриса, — уверенно сказал я.
— Но я никогда не одобрял этого брака. А ты что думаешь?
— Нечего тут думать! Дураки оба!
— А почему у тебя слезы на глазах?
— А у тебя, генерал?..
…………………………………………………………………………
И почему кукла в розовом шелковом платье напомнила мне все это? Завтра Новый год, и эта кукла — подарок моей крестнице, имя которой Джейн де Лаварден. Она прекрасная мать, дети обожают ее. Я смирился с тем, что она победила Генерала, а Джордж — самый гордый муж во Франции.
Но когда я подумаю о ролях, которые я мог бы написать для нее… о блеске, которого лишилась сцена… когда я подумаю о том, что ради обычного семейного счастья женщина способна отвергнуть всемирную славу — я не могу ей, милой моей, этого простить, ну никак не могу!
* * *
Кэтрин Мэнсфилд
Жизнь матушки паркер
Молодой писатель, открывая дверь перед матушкой Паркер, которая каждый вторник приходила убирать его квартиру, осведомился о ее внуке. Старушка, стоя на коврике в маленькой темной прихожей, протянула руку, чтобы помочь ему закрыть дверь, и только после этого тихо ответила: «Вчера мы похоронили его, сэр».
— О, Боже! Мне очень жаль… — пораженный, пробормотал джентльмен. Она вошла в то время, когда он завтракал. На нем был потрепанный халат, в руке он держал помятую газету. Ему было неловко так просто вернуться в свою теплую комнату, ничего — совсем ничего — не сказав ей. Наконец он спросил:
— Надеюсь, погребальная церемония прошла благополучно?
— Простите, сэр? — Матушка Паркер не расслышала вопроса.
Бедная старуха! Она выглядела убитой. Наклонив голову, она проковыляла в кухню, неся в руке старую авоську с вещами для уборки, фартуком и парой стоптанных тапочек.
Писатель поднял брови и вернулся к завтраку.
Матушка паркер достала из сумки две большие тряпки и повесила их позади двери. Затем повязала передник и села снять башмаки. Снимать и надевать обувь было для нее сущим наказанием, но так было уже давно. Старуха настолько привыкла к боли, что лицо ее заранее страдальчески морщилось, едва она успевала развязать шнурки. Покончив с этим неприятным делом, она откинулась на спинку стула со вздохом и потерла руками больные колени…
— Бабуль! А бабуль! — Маленький внучек стоит у нее на коленях в своих ботиночках на пуговках. Он только что вбежал с улицы.
— Посмотри, во что ты превратил мою юбку, нехороший ты мальчик!
Но он уже обнял ее за шею и трется своей гладкой щечкой о ее щеку.
— Бабуль, дам нам пенни! — клянчит он.
— Отстань, нет у меня никаких пенни!
— Есть!
— Да нет же!
— Ну дай, бабуль!
Она чувствует в руках свой старый, видавший виды черный кожаный кошелек. смущенно смеется и нажимает на защелку. Его веко дрожит возле ее щеки.
— Вот видишь, ничего нет, — бормочет она…
Старушка встала, взяла чугунный чайник и понесла его к крану. Шум льющейся в чайник воды, казалось, утишил ее боль. Она наполнила водой и кастрюлю, и ведро для уборки.
Целой книги не хватило бы, чтобы описать эту кухню. В течение недели писатель «обходился» сам. Это значит, что он выбрасывал чайную заварку в банку из-под джема, а когда у него заканчивались чистые вилки, он просто вытирал полотенцем грязные. Его «система», как он объяснял друзьям, была очень проста, и он никак не мог понять, почему люди делают культ из уборки. «Надо просто стирать тряпкой пыль со всего, что у вас есть, раз в неделю протереть пол — и все дела!»
Результат выглядел впечатляюще. На полу валялись крошки от тостов, обертки, пепел… Матушка Паркер не делала джентльмену замечаний. Она жалела его — ведь за ним некому было смотреть. Из маленького закопченного окна виднелось печальное небо; если по нему плыли облака, то и они выглядели изношенными: старыми, рваными по краям и с дырками посредине, с темными пятнами, как от чая.
Пока вода грелась, Матушка Паркер начала мыть пол. — «Да, — подумала она, стукнув щеткой, — у меня была-таки тяжелая жизнь».
Даже соседки так говорили о ней. Бывало, она ковыляла домой со своей авоськой и слышала их приглушенные голоса: «Наша матушка Паркер прожила тяжелую жизнь», и это было настолько справедливо, что и гордиться нечем. Это было все равно что сказать, что она живет в подвальном этаже дома номер такой-то.
Да. Жизнь…
Шестнадцати лет от роду она оставила Стрэтфорд и приехала в Лондон в качестве младшей кухарки. Да, она родилась в Стрэтфорде-на-Эйвоне. Родина Шекспира, сэр? Да, люди всегда задают этот вопрос. Но она никогда не слыхала этого имени, пока не увидела его на афишах театров.
Все, что она помнила о Стрэтфорде, заключалось в том, что, «сидя возле печки, можно было увидеть звезды через дымоход» и что «у матери всегда был свиной бок, свисавший с потолка в чулане». И еще что-то было: кажется, куст у парадной двери, с таким приятным запахом… Но куст был колючий. Она пару раз вспомнила о нем, когда была в больнице.
Ее первое место работы было ужасным. Ей не разрешали выходить на улицу. Даже подниматься наверх — кроме утренних и вечерних молитв. Там был хороший погреб, но старшая кухарка была очень злая женщина. Она выбрасывала письма, приходившие ей из дома, даже не дав ей прочесть, потому что «из-за этих писем она спит на ходу».
Когда та семья разорилась, она переехала «помощницей» в дом доктора. Еще через два года беготни от темна до темна она вышла замуж. Ее муж был бакалейщик.
— Бакалейщик, миссис Паркер? — сказал бы писатель, отложив в сторону книгу и прислушиваясь краем уха к жизни. — Так это же здорово — быть женой бакалейщика!
Матушке Паркер так не казалось.
— Это ведь такая чистая торговля!
Матушку Паркер это не убеждало.
— Разве не приятно подавать покупателям тепленькие, свеженькие булочки и батоны?
— Но, сэр, мне не приходилось торговать самой. У нас было тринадцать маленьких, и семерых из них я похоронила. Наш дом всегда был похож если не на лазарет, то на ясли.
— О да, Вам досталось, миссис Паркер! — сказал бы писатель сочувственно, снова берясь за перо.
Да, семерых детей она потеряла. А когда оставшиеся шесть были еще маленькие, муж заболел чахоткой. В легких была мука, сказал врач… Она помнит: муж сидит на кровати, задрав рубашку на голову, а врач пальцем рисует на его спине кружок.
— Если бы мы разрезали его вот здесь, мэм, — говорил доктор, — Вы бы увидели, что его легкие забиты белым порошком. Дышите, милый мой!
Матушка Паркер так и не знает наверняка, видела ли она или ей показалось, что изо рта бедного умершего мужа высыпался белый порошок…
Но какую борьбу с жизнью ей пришлось вынести, чтобы поднять шестерых малышей и при этом держаться! Это был просто кошмар! А когда дети стали постарше и пошли в школу, младшая сестра мужа приехала присмотреть за ними и помочь ей. Но не прошло и двух месяцев, как она упала с лестницы и повредила позвоночник. И пять долгих лет у матушки Паркер был еще один ребенок, за которым надо было ухаживать. И уж как он любил поплакать!
А потом Моди пошла по кривой дорожке, а за ней младшая сестра Элис. Двое мальчиков уехали в другие города, Джимми ушел в Англию с армией, а Этель, самая младшая, вышла замуж за сопляка официанта, который умер от язвы в тот год, когда родился маленький Ленни. И теперь вот — малыш Ленни, мой внук…
Груды грязных чашек и блюдец были вымыты и вытерты, грязные до черноты ножи отчищены ломтиком картофеля и доведены до блеска пробкой. Стол был вычищен, как и шкаф, и раковина с плававшими в ней хвостами сардин…
Ленни никогда не был крепким ребенком — с самого рождения. Он был из тех прелестных беби, которых все принимают за девочку. Серебристые кудряшки, большие голубые глаза и маленькая родинка на левой стороне носика. Как трудно было им с Этель растить этого малыша! Чем только они не пытались заинтересовать его! Даже тряска в автобусе не улучшала его аппетита; прогулки в парке не придавали ему румянца.
Но зато с самого начала он был бабулечкин мальчик.
— Чей ты, мальчик? — спрашивала старая матушка Паркер, поднимаясь от плиты и подходя к закопченному окошку. И голосочек, такой теплый, такой близкий, казалось, раздававшийся прямо у нее под сердцем и заставлявший ее таять от нежности, весело говорил: «Бабулечкин!»
Старушка услыхала шаги и увидела писателя, одетого для прогулки.
— Миссис Паркер, я ухожу.
— Хорошо, сэр.
— Вы найдете свои полкроны на моем письменном приборе.

— Благодарю Вас, сэр.
— А кстати, миссис Паркер, — быстро произнес писатель, — Вы случайно в прошлый раз не выбрасывали какао?
— Нет, сэр.
— Странно. Готов поклясться, что у меня в баночке оставалось немного какао на дне. — Он продолжал мягко, но убедительно: — Вы всегда говорите мне, если будете что-нибудь выбрасывать, ладно, миссис Паркер?
И он ушел, довольный собой, уверенный в своей правоте. Она видела, что под своей кажущейся беспечностью писатель мелочен, как женщина.
Хлопнула дверь. Старуха взяла свои тряпки и щетки и пошла в спальню. Пока она постилала белье, гладила, мяла, заправляла постель, мысли о Ленни стали невыносимыми. Почему он так страдал? Этого она не могла понять. Почему маленький ребенок, этот ангелок, должен был мучительно искать свое дыхание, бороться за него? Она не видела смысла в том, чтобы заставлять ребенка так страдать.
…Из груди малыша исходил такой звук, будто там что-то кипело. Казалось, внутри ворочается и булькает какой-то большой комок, от которого он никак не может освободиться. Когда он кашлял, от его головы во все стороны брызгал пот, глазки краснели, ручки дрожали, а этот комок в груди булькал, как картошка на сковородке.
Но самое страшное было видеть, как между приступами мальчик сидит нахохлившись, опершись на подушки, ничего не говоря, не отвечая на вопросы, даже как будто и не слыша. Он только смотрел обиженно.
— Родной мой, ну скажи, чем твоя бедная старая бабуля может тебе помочь? — спрашивала матушка Паркер, убирая потные волосики ему за маленькие покрасневшие ушки. Ленни отворачивался. Казалось, он был обижен на нее — и мрачен. Он опускал голову и смотрел искоса, как будто не мог ожидать такого от своей бабушки.
Но в конце…
Матушка Паркер бросила покрывало на постель. Нет, она больше не может думать об этом. Это выше ее сил — ей слишком много пришлось пережить. До сего дня она сносила все терпеливо, она держалась, и никто никогда не видел ее слез. Ни одна живая душа. Даже при собственных детях она никогда не срывалась. Она сохраняла лицо. Но теперь! Ленни больше нет — и кто она, что она? У нее не осталось ничего. Он был всем, что у нее осталось от жизни, и вот — его тоже забрали у нее.
— Почему это все должно было случиться со мной? — спрашивала она себя. — Что я такого сделала? Что? — вопрошала старая матушка Паркер. — В чем моя вина?
Говоря эти слова, она вдруг выронила щетку. Она оказалась на кухне. Несчастье ее было так велико, что она натянула свою шляпу, напялила жакет и вышла из квартиры, как сомнамбула. Она сама не понимала, что делает. Человек, подавленный ужасом происходящего, бежит куда глаза глядят, как будто от этого можно спрятаться…
На улице было холодно. Дул ледяной ветер. Люди скользили мимо нее. Мужчины перебирали ногами, как ножницы, женщины крались, словно кошки. И никто ничего не знал, и никому не было дела до нее. Если бы она сорвалась, если бы после всех этих лет терпения она наконец заплакала, ее все равно никто не понял бы…
Мысль о плаче была похожа на мысль о том, как малыш Ленни всхлипывает у нее на руках. Да, мой мальчик, да, именно этого хочет твоя старая бабулечка. Она просто хочет поплакать.
Если бы только она могла заплакать сейчас и плакать долго-долго, над всем, начиная со своего первого места работы и злой кухарки, над семерыми умершими малышами, над смертью мужа и уходом всех детей, — над всеми этими годами несчастий, которые были до Ленни! Но, чтобы как следует поплакать об этом, надо много времени. Неважно — время пришло. Нельзя дольше откладывать, невозможно ждать… Куда же пойти?
«У нее была тяжелая жизнь, у нашей матушки Паркер».
Да, в самом деле! Подбородок задрожал, вот-вот потекут слезы.
Но где? Куда? Домой идти было нельзя: там была Этель. Это ее до смерти напугает. Присесть на скамейку тоже нельзя: люди будут подходить с вопросами. Можно было пойти обратно, в квартиру писателя, но это неприлично — плакать в чужих домах. Если присесть на ступеньки — обязательно привяжется полисмен.
О, есть ли где-нибудь место, чтобы спрятаться, побыть наедине с собой, сколько понадобится, и чтобы при этом не обеспокоить никого? Есть ли где-нибудь в мире место, где она могла бы наконец поплакать?
Матушка Паркер стояла, глядя вокруг. Ледяной ветер надул ее передник пузырем. Начинался дождь…
Плакать было НЕГДЕ.
* * *
Алгернон Блэквуд
Долина зверей
Когда густой лес внезапно кончился, и они вышли на утес, индеец-проводник ахнул. Гримвуд, его наниматель, стоя позади него, глядел на прекрасную долину, раскинувшуюся под их ногами, покрытую лесом, в золоте заходящего солнца. Оба, завороженные красотой открывшегося зрелища, оперлись на свои ружья.
— Здесь мы и остановимся, — осмотревшись, кратко сказал Тушалли, — а завтра составим план.
Он прекрасно говорил по-английски, и в его голосе была заметна нотка решимости, даже властности, что Гримвуд отнес к вполне естественному раздражению. Следы, по которым они шли последние два дня, прямиком приводили их к этой удаленной и потаенной долине.
— Верно, — ответил англичанин тоном приказа, — можешь приступать к разбивке лагеря. — Он сел на поваленное дерево, чтобы снять мокасины и дать покой ногам, гудевшим после сумасшедшего дня, который близился к концу.
В другой день Гримвуд мог бы идти еще час-другой, но сегодня он был не прочь уснуть прямо здесь и сейчас: такое изнеможение нашло на него. За последние несколько часов беспорядочной ходьбы его глаза и мускулы утратили надежность, и он все равно не смог бы стрелять наверняка. А во второй раз промахнуться ему не хотелось.
Вместе со своим другом, канадцем Айрдэлом, его двоюродным братом и индейцем-проводником Тушалли он три недели назад отправился на охоту за «прекрасным большим карибу», который, как говорили индейцы, водится в долине Снежной реки. Путники скоро убедились, что разговоры — правда; в долине было много следов, и ежедневно они видели красавцев животных вблизи. Головы их были недурны, но охотники ожидали лучших экземпляров и не спешили стрелять.
Продвигаясь вверх по реке к цепи мелких озер у ее истоков, они разделились на две группы, по девятифутовому каноэ у каждой, преследуя еще более крупных особей в глубине лесов. Охотничий азарт был велик; ожидание делало его еще острей. За день до разъединения Айрдэл застрелил самого крупного карибу в своей жизни, больше, чем с Аляски, и великолепная голова его теперь украшала стену в его домике. Охотничья кровь Гримвуда кипела. Эта кровь была огненного, чтобы не сказать — взрывоопасного, свойства. Казалось, этот человек любит убийство как таковое.
Через четыре дня они напали на след гиганта карибу, воспламенивший каждый нерв Гримвуда до последней степени. Тушалли некоторое время тщательно изучал следы.
— Это самый крупный карибу в мире, — сказал он после минутного размышления, с новым выражением на непроницаемом красном лице.
Преследуя оленя весь тот день, они так и не увидали его, хотя он, похоже, часто посещал один болотистый уголок, слишком маленький, чтобы называться долиной, где в изобилии росли ивы. Животное не чуяло своих преследователей. На рассвете они опять пошли за ним, и к вечеру следующего дня Гримвуд наконец увидел гиганта за густой купой ив. Дивная голова, бьющая все рекорды, заставила его сердце биться громче. Он прицелился и выстрелил. Карибу не упал, а повернулся и быстро умчался прочь, с треском продираясь сквозь кустарник. Гримвуд промахнулся, хотя, быть может, и ранил зверя.
Они стали лагерем и весь следующий день, оставив каноэ, шли по следу гиганта, иногда находя незначительные следы крови, что показывало, что пуля лишь оцарапала животное. Путь был тяжел. К вечеру, совершенно измотанные, они достигли утеса, на котором теперь стояли, глядя вниз на восхитительную долину, открывавшуюся у них под ногами. Именно туда, в эту долину, спустился преследуемый ими олень. Вероятно, там он считал себя в безопасности.
На ночь они станут лагерем, а на рассвете продолжат свою дикую охоту за «самым крупным карибу в мире».
Ужин закончился, костерок догорал, когда Гримвуд впервые ощутил что-то странное в поведении индейца. Что именно, он затруднился бы сказать. Любой другой заметил бы изменение в поведении краснокожего уже давно, но Гримвуд вообще был тугодум, и наблюдение долго пробивало себе дорогу в чувстве удовольствия от долгожданного отдыха.
Тушалли успел развести костер, поджарить бекон, заварить чай и сейчас возился с одеялами для себя и хозяина, когда тот заметил, что индеец молчалив. Тушалли не произнес ни слова за те полтора часа, что прошли с тех пор, как они добрались до края долины. И вот теперь его хозяин, любивший после ужина послушать лесные рассказы и охотничьи байки проводника, заметил его необычную задумчивость.
— Что, умаялся, парень? — спросил большой Гримвуд, глядя в темное лицо за дымкой костра. Ему не нравилось это молчание. Он и сам страшно устал, а значит, был раздражительнее обычного — хотя и по природе был зол.
— Язык откусил? — продолжал он, когда индеец посмотрел на него без всякого выражения. Темный, непроницаемый взгляд индейца окончательно разозлил его. — Да скажи же ты что-нибудь! — закричал он. — Что все это значит?
Англичанин понял, наконец, что молчание индейца имеет некий скрытый смысл. Это его еще больше насторожило. Тушалли смотрел мрачно и не отвечал. Молчание длилось еще несколько минут, затем индеец повернул голову, словно прислушиваясь к чему-то. Спутник наблюдал за ним, все больше наливаясь гневом.
Но что-то в повороте головы индейца и во всей его осанке напрягло нервы Гримвуда, давая ощущение, какого он никогда за всю свою жизнь не испытывал, — то, что называют «мурашки по коже». Это чувство озадачило его.
— Я с тобой разговариваю или нет?! — потребовал он, повысив голос, и подвинулся к огню. — Открой наконец свой рот!
Его голос замер среди деревьев, стеною окружавших их, делавших молчание леса неприятным, заметным для слуха. Очень уж тихо стояли вокруг большие деревья; не было ни ветерка, ни малейшего движения ветвей; время от времени квакала одинокая лягушка; ночная жизнь бесшумно текла, с высоты поглядывая на человеческие существа, расположившиеся у небольшого костерка. Октябрьский воздух был уже морозен.
Краснокожий молчал. Ни один мускул его шеи и напряженного тела не двинулся. Казалось, он весь обратился в слух.
— Ну же, — спросил англичанин с растущим раздражением, инстинктивно понижая голос, — что ты там такое услышал, черт тебя дери?
Тушалли медленно повернул голову в прежнее положение.
— Ничего я не услышал, мистер Гримвуд, — ответил он, глядя в глаза хозяина со спокойным достоинством.
Это было уже слишком! У Гримвуда был свой взгляд на то, как правильно обращаться с представителями низших рас.
— Ты лжешь, Тушалли. И мне это совсем не нравится. Что это было? Сейчас же говори!
— Ничего, — повторил Тушалли. — Я просто размышляю.
— И о чем же это ты размышляешь, позволь узнать?
— Я не пойду в долину, — коротко и решительно сказал индеец.
Ответ был неожиданный, как удар. Гримвуд даже растерялся. Он не сразу понял смысл сказанного; ум его, и без того малоподвижный, был спутан нетерпением; все происходящее казалось ему глупой шуткой.
Уяснив, наконец, смысл слов индейца, Гримвуд понял неподъемную тяжесть стоявшей перед ним задачи. Тушалли отказывался сопровождать его в долину, куда скрылся гигантский карибу! Изумление Гримвуда было таково, что он не находил слов: просто сидел и смотрел перед собой.
Наконец он обрел дар речи.
— Что это все значит? — хрипло спросил он.
— Это — Долина зверей, мистер Гримвуд, — еще тише ответил проводник.
Англичанин сделал попытку овладеть собой. Он имеет дело, заставил он себя вспомнить, с типичным индейцем. А они известны своим упрямством. Если этот человек его оставит, его охота будет непоправимо испорчена: ведь один он в этом диком лесу в два счета заблудится. Даже если он и добудет эту проклятую голову, ему ее ни за что не вынести из лесу одному. Природное себялюбие Гримвуда протестовало. Приходилось заискивать, несмотря на гнев.
— «Долина зверей», — произнес он с улыбкой; глаза потемнели. — Ну, так и что же? Ведь это как раз то, что нам надо. Мы же на зверей охотимся? Или нет? — Голос его звенел фальшивой бодростью, которая не могла бы обмануть и младенца. — И что это еще за «долина зверей» такая?
— Она принадлежит Иштоту, мистер Гримвуд, — спутник смотрел ему в лицо, избегая глаз.
— Но ведь мой — наш — большой карибу там! — отозвался Гримвуд, узнавший имя охотничьего бога индейцев и надеясь, что спутника удастся переубедить: он вспомнил, что Тушалли крещен. — На рассвете мы пойдем по его следам и добудем самую большую голову, какую только видел свет. Ты станешь знаменит! — добавил он, все больше владея собой. — Твое племя будет славить тебя. А белые охотники дадут тебе много денег.
— Он ушел туда, чтобы спастись. Я не пойду в долину.
Глупое упорство проводника оживило гнев англичанина. Он понимал, что сдвинуть спутника с мертвой точки не под силу никому. Понимал и то, что насилие с его стороны не только не поможет, но и повредит. Однако ему был присущ именно такой стиль поведения. Не зря его называли жестоким.
— Но ты ведь христианин, вспомни, — сделал он новую неуклюжую попытку. — А непослушание означает — гореть в аду!
— Да, я христианин — там, — был ответ. — Но здесь — владения бога краснокожих. Эту долину Иштот хранит для себя. Ни один индеец не охотится здесь.
Подавленный темперамент Гримвуда вспыхнул огнем. Он встал, отпихнув одеяла ногами, и уставился на индейца сквозь дым умирающего костра. Тушалли тоже поднялся. Они стояли один против другого, двое людей в диком лесу, и лес смотрел на них своими бесчисленными невидимыми глазами.
Тушалли не двигался, молча ожидая насилия со стороны своего глупого и невежественного бледнолицего спутника.
— Идите один, мистер Гримвуд. — В голосе индейца не было страха.
Англичанин взорвался яростью. Слова выходили из него с трудом, он рычал в тишину ночного леса:
— Я, кажется, п-плачу тебе, не так ли? И ты должен делать, что я с-скажу, а не то, что угодно т-тебе! — его голос будил эхо.
Тушалли, стоя руки по швам, твердил свое: «Я не пойду туда».
Англичанин взбеленился. — Ты мне надоел со своими глупостями! — взревел он и ударил индейца по лицу. Тот упал, затем поднялся на колени, не без труда сел, не спуская глаз с лица белого человека. Гримвуд стоял над ним вне себя от ярости.
— Хватит с тебя? Будешь слушаться, или… — кричал он.
— Я не пойду туда, — отвечал индеец; кровь текла по его подбородку. — Эту долину охраняет Иштот. Он видит нас сейчас. Иштот смотрит на нас! — Последние слова он прошептал особенно выразительно.
Гримвуд, занесший было кулак для второго удара, внезапно остановился. Рука повисла в воздухе. Он сам не мог бы сказать, что именно остановило его. Во-первых, он сам боялся своего гнева: он знал, что если даст себе волю, то не остановится, пока не убьет, — а значит, станет убийцей. Этого он не хотел.
Но было не только это. Спокойная твердость индейца, мужество, с которым он противостоял боли, что-то в его неподвижных горящих глазах действовало против воли Гримвуда. Не эти ли слова: «Иштот смотрит на нас…» — захватили его врасплох и заставили от насилия перейти к осторожности?
Он не знал. Он только внезапно ощутил, что вокруг них — лес, что он тих, непроницаем и отрешенно молчит. Дикая природа, молчаливо глядящая на готовое свершиться убийство, остудила его пыл. Рука упала, кулак разжался, дыхание стало ровнее.
— Слушай сюда, — начал он, сам не чувствуя, как переходит на местный диалект. — Не такой уж я злодей, хотя твое проклятое упрямство доведет кого угодно. Я даю тебе шанс. — Новые нотки в голосе удивили его самого. — Я дам тебе ночку подумать, Тушалли, идет? Обсуди это со своим…
Он не закончил фразы. Имя Краснокожего хозяина отказалось сойти с его языка. Гримвуд отвернулся, закутался в одеяла и через десять минут, измученный гневом не меньше, чем тяжелой дневной ходьбой, крепко уснул.
Индеец молча сидел возле умирающего огня. Ночь охватила лес, на небе густо высыпали звезды. Ночная жизнь леса шла своим чередом с той удивительной тишиной и искусством, какое могли выработать только долгие годы. Краснокожий, близкий этому искусству, инстинктивно черпавший из него, был молчалив, всеведущ и настолько естественен в своих проявлениях, как будто он сам, подобно своим четвероногим учителям, был частью окружающей природы.
Когда он двигался, этого никто не видел и не слышал. Мудрость, почерпнутая от той вечной древней матери, которая не совершает ошибок, никогда не подводила его. Походка индейца была бесшумной, его дыхание, как и вес, было рассчитано. Звезды смотрели на него молча; светлый воздух знал о нем многое, но не выдавал его…
Холодный рассвет забрезжил между деревьями, освещая бледную золу вчерашнего костра и неуклюжую фигуру под одеялами. Фигура слегка поежилась: холод давал себя знать.
Человек пошевелился оттого, что сон пришел потревожить его. Темная тень пересекла затуманенное поле его зрения.
«Возьми это, — произнесла тень, протягивая маленькую причудливо изогнутую палочку. — Это тотем великого Иштота. В долине вся память о белых оставит тебя. Вызови Иштота. Вызови его… если посмеешь».
И темная фигура растаяла, исчезнув из сна и воспоминаний…
Первое, что заметил Гримвуд по пробуждении, было отсутствие проводника. Не было костра, не было и чая. Англичанин был озадачен. Он осмотрелся и встал, чтобы зажечь огонь. Он был смущен и встревожен, ясно понимая одно: его спутник бросил его одного в лесу, и приходится заботиться о себе самому.
Было холодно. Гримвуд с трудом развел костер и приготовил себе чай. Действительность постепенно доходила до него. Индеец-проводник покинул его; либо сказались побои, либо мистический ужас перед Краснокожим хозяином, а может быть, и то, и другое. Он был один; это неоспоримый факт. А Гримвуд питал интерес только к фактам, детали его не интересовали.
Когда он машинально упаковывал одеяла, ему под руку попался кусочек дерева причудливой формы, который он в первый момент хотел отбросить прочь, — но тут ему вспомнился его странный сон. Да, полно, сон ли? Этот кусочек дерева был тотемной палочкой. Он внимательно осмотрел ее: да, вопросов нет. Так, значит, то был не сон? Тушалли ушел, но, следуя каким-то своим индейским законам верности, оставил ему средство безопасности. Он поморщился, но пристроил палочку к себе в патронташ. «Мало ли что может случиться», — подумал он вслух.
Гримвуд попытался взглянуть на ситуацию объективно. Он был один среди дикого леса. Его способный, опытный проводник, «лесной человек», бросил его. Положение было серьезным. Но что было делать? Слабак, конечно, пошел бы по следам индейца, боясь остаться в одиночестве в широкой пустыне бескрайнего леса. Но Гримвуд был не из таких. Его брутальная натура требовала активных действий. Он был подвижным и спортивным. Он решил не отступать.

И через десять минут после завтрака, проведя ревизию своих вещей, англичанин был уже на тропе, переваливая через хребет в таинственную долину — «Долину зверей». Она выглядела заманчиво в лучах рассвета. Деревья смыкались за Гримвудом, тропа вела его вперед…
Охотник шел по следу гигантского карибу, которого собирался застрелить, и нежный солнечный свет приходил ему на помощь. Воздух был словно вино, близость огромного животного, следы крови на листьях, на земле, — все пьянило преследователя. Ему нравилась долина; все больше он замечал, как прекрасны и величественны могучие ели и кедры, как красивы гранитные скалы, местами поднимающиеся над лесом и освещаемые солнцем… Красота впервые так воздействовала на него, и впервые в жизни ему было так хорошо.
Долина оказалась шире и глубже, чем предполагал англичанин, однако он чувствовал себя здесь в безопасности, почти как дома. Здесь можно было остаться навеки и обрести душевный мир… Он почувствовал прелесть глубокого уединения.
Новые ощущения нисходили на него так постепенно, так нежно, минуя сознание, что укоренились в душе еще до того, как он их заметил. Страсть к охоте уступила место интересу к самой долине. Азарт охоты, острое желание выследить добычу, прицелиться и застрелить ее, то есть успешно завершить долгий и трудный поход, отходили на задний план; в то же время действие природы на него возрастало, и что-то внутри него приветствовало это. Изменение было разительным, хотя самому охотнику так не казалось. Чтобы такой ненаблюдательный и не склонный к анализу человек, как Гримвуд, заметил изменение в себе, оно должно было быть выдающимся, резким, шоковым. А шока как раз не было.
След большого карибу был явственным, он явно был уже недалеко, следы крови встречались чаще. Охотник нашел место, где животное отдыхало: его тяжелое тело оставило отпечаток на мягком грунте; здесь олень дотягивался до листьев деревьев. Гримвуд вот-вот должен был увидеть эту громадину на расстоянии легкого выстрела. Но охотничий задор в нем как-то поугас.
Он заметил перемену в себе, когда вдруг понял, что и само животное стало менее осторожным. Оно должно было уже почуять его, потому что звери, по природе близорукие, больше полагаются на свое необычайно острое чутье, а ветер как раз дул от охотника к оленю. Это было решительно необычно: карибу явно не чувствовал страха.
Эта необъяснимая перемена в поведении зверя наконец заставила его заметить перемену в себе самом. Он уже пару часов преследовал животное, спустившись вглубь долины на 800—1000 футов; деревья стали реже и тоньше; появились открытые места, где серебристая береза, сумах и клены раскидывали свои ослепительные осенние краски. Хрустальный поток, пресекавшийся множеством водопадов, устремлялся вглубь огромной долины еще на тысячу футов вниз.
Возле тихого пруда напротив нависающих скал карибу, очевидно, остановился попить, а может, просто отдохнуть. Гримвуд, тщательно обследовавший направление, которое избрал олень после водопоя, — следы копыт были свежи и отчетливы на болотистой почве, — вдруг прямо взглянул в большие глаза животного. Карибу стоял всего в двенадцати ярдах от него, и охотник замер, завороженный чудесным и редкостным зрелищем. Так, значит, животное все это время было совсем рядом! Олень спокойно пил, ничуть не взволнованный присутствием человека.
Вот теперь Гримвуд изумился, теперь до его тяжеловесной натуры что-то наконец дошло. Несколько минут он стоял, как будто прирос к земле, не двигаясь, тяжело дыша, наблюдая. Голова зверя была опущена; он поворачивал ее то левым, то правым боком, чтобы получше рассмотреть человека. У животного была могучая грудь, широко посаженные передние ноги, изгиб могучих плеч уходил назад, к безукоризненному крупу и стройным задним ногам. Это был неимоверной красоты бык. Рога и вся голова животного удовлетворили бы вкусу самого строгого знатока, экземпляр был действительно рекордный, и в его уме как из тумана, издалека возникла фраза — где же он слышал ее? — «Самый крупный карибу в мире».
Это было, конечно, удивительно и необъяснимо, но Гримвуд не стрелял; поднять ружье, прицелиться и выстрелить оказалось вдруг совершенно невозможно… Знакомый инстинкт, еще недавно горевший в его крови, не давал себя знать; желание убивать оставило его.
Животное и человек довольно долго смотрели в глаза друг другу, не двигаясь. Гримвуд потерял ощущение времени. Вдруг он услышал звук падения: винтовка выпала из его руки на покрытую мхом влажную землю. олень не торопясь пошел к охотнику, глубоко увязая копытами во влажной земле; могучие плечи покачивались при ходьбе, как корабль на волнах. Животное подошло к человеку почти вплотную, великолепная голова наклонилась к земле, размах гигантских рогов был прямо у него перед глазами. Охотник мог бы потрогать, погладить животное. С чувством острой жалости он увидел, что из раны на левом плече оленя, окрашивая густой мех, сочится кровь.
Животное обнюхало винтовку. Потом, вновь подняв голову и плечи, оно понюхало воздух, громко втянув его в себя. Этот звук полностью изгнал из сознания Гримвуда мысль, что это наваждение или сон. Секунду карибу прямо смотрел в лицо охотника, при этом его большие карие глаза блестели, в них не было страха. Затем он повернулся и поскакал прочь с завидной быстротой, пока не исчез в темной тени редколесья. Мускулы англичанина ослабели, владевший им паралич прошел, ноги отказались держать тело, и он тяжело осел на землю…
Вероятно, он уснул, сон был долог и тяжел; он встал, потянулся, зевнул и протер глаза. Солнце прошло свой дневной путь по небосклону: он видел, что тени протянулись с запада на восток, и это были длинные тени; значит, прошел не один час, наступал вечер. Гримвуд почувствовал голод. В карманах у него были сушеное мясо, сахар, спички, чай и маленькая фляжка — его неизменный спутник. Он мог разжечь огонь, вскипятить чай и поужинать.
Но он не сделал этого. Ему не хотелось шевелиться, он все думал, а о чем — и сам не знал. В уме охотника проносились дивные картины. Кто он? Где он? Он знал, что находится в Долине зверей, ни в чем другом он не был уверен. Как давно он здесь? Откуда пришел? И зачем? Вопросы не требовали ответа, как будто интерес к ним был просто машинальным. Гримвуд чувствовал счастье, умиротворение, страха не было.
Он огляделся, и шепот девственного леса опустился на него, как морок; только звук падающей воды, ропот ветра, вздыхающего среди густых ветвей, нарушали обволакивающую тишину. Над головой, за кронами возвышающихся над ним вековых деревьев, безоблачное ветреное небо меняло цвет на прозрачно-оранжевый, опаловый, жемчужный… Комары лениво толклись в воздухе. Пролетела ярко-красная птица. Скоро наступит время сов, и темнота сладкой черной вуалью упадет на лес, скрывая все мелочи, и только звезды будут сверкать — бесчисленные и далекие…
Вдруг блестящий предмет на земле привлек внимание Гримвуда: гладкая, отполированная, закругленная металлическая поверхность. Его винтовка! Он импульсивно вскочил на ноги, еще не зная в точности, что собирается делать. При виде оружия в англичанине что-то проснулось, затем стало тише, тише и утихло совсем…
— Я — я… — он шептал себе под нос, но не мог закончить фразы. Он забыл свое имя. — Я в Долине зверей, — повторял он вместо того, что искал и не мог найти. Тот факт, что он находится в Долине зверей, казался Гримвуду единственной правдой, которую он знал. Относительно имени — что-то такое напрашивалось, но вспомнить не удавалось. Он поднялся на ноги, сделал несколько шагов, наклонился и поднял с земли блестящую металлическую штуку — свое ружье. С минуту он рассматривал ее с нарастающим чувством страха и отвращения, почти ужаса, пронзавшим до дрожи; затем размахнулся и бросил штуку в пенящийся поток.
Он увидел и услышал всплеск. Крупный гризли, тяжело ступавший по берегу менее чем в двенадцати ярдах от него, тоже услыхал звук; он вздрогнул, повернул голову, секунду помедлил и пошел по направлению к человеку. Медведь подошел совсем близко, его мех коснулся тела Гримвуда. Он тщательно обследовал человека, как раньше олень: обнюхал, наполовину поднялся на могучие задние лапы, открыл пасть, так что видны были красный язык и блестящие зубы, затем снова встал на четвереньки и с утробным ворчанием, впрочем, без гнева, довольно быстро поскакал обратно к берегу ручья.
Гримвуд ощущал на лице жаркое дыхание зверя, но страха не было. Чудовище было озадачено, но не враждебно. Оно исчезло.
— Они не знают… — он искал слово «человека», но не мог найти. — На них никогда не охотились.
Слова вновь и вновь машинально проносились в голове Гримвуда, неся знакомое звучание, но утратив смысл. В то же время в душе его возникали чувства, тоже, хотя и по-иному, знакомые ему и совершенно естественные. Он когда-то их знал хорошо, но это было так давно… Что это были за чувства? Где их источник? Они казались далекими, как звезды, но продолжали жить в нем, в его нервах, в крови и плоти, были частью его самого. Давным-давно… О, как это все было далеко!
Думать было трудно: легче и естественнее было чувствовать. Ощущения нарастали и топили под собой любую попытку мышления.
Тот огромный и страшный гризли — ни один нерв, ни один мускул не дрогнул в человеке при его приближении; а между тем где-то была опасность, не здесь, но была. Где-то были агрессия, вражда, злые козни против него — как и против того прекрасного, величественного животного, которое, обнюхав и исследовав его, отошло своей дорогой, умиротворенное. Да, активная вражда и тщательно рассчитанная угроза его жизни были — но где-то, не здесь.
Здесь Гримвуд был защищен, он находился в безопасности, здесь он был счастлив, свободен; ни один враждебный ему взгляд не проникал в глубины леса, никакое ухо не вслушивалось в необъяснимые звуки, никакой нос не принюхивался к тревожащим запахам. Он ощущал это, не думая об этом. Он почувствовал также голод и жажду.
Что-то, наконец, подсказало ему, как поступить. Фляжка лежала у его ног, он поднял ее; спички — он носил их в металлической баночке с завинчивающейся крышкой, чтобы уберечь от сырости, — были под рукой. Собрав несколько сухих сучков, он наклонился было их зажечь, как вдруг отпрянул в сторону с незнакомым ранее испугом.
Огонь! Что это? Самая мысль об огне устрашала его; зажечь костер казалось невозможным. Он забросил металлическую баночку следом за ружьем и увидел, как она блеснула в последних лучах солнца и с легким всплеском исчезла под водой. Глядя на свою фляжку, Гримвуд вдруг понял, что и она для него бесполезна, как и темный сухой порошок, который он собирался заварить в воде. Он не испытывал страха в связи с этими вещами, но и не умел обращаться с ними; он просто не нуждался в них, он забыл, да, «забыл», что они означают. Эта странная забывчивость быстро нарастала и становилась все более тотальной. Но жажду-то надо было утолить.
В следующее мгновение Гримвуд осознал себя стоящим на краю водоема; он наклонился было наполнить фляжку, но отложил ее. Жесты его были неуклюжи, движения неловки. Он плашмя лег на землю, потянулся лицом к тихому зеркалу воды и напился холодной освежающей влаги. Однако, сам не зная того, он не просто пил. Он лакал.
Умостившись поудобнее там, где сидел, он поел сушеного мяса и сахара из карманов, еще полакал воды; затем отодвинулся немного назад, на сухую землю, под деревья, не давая себе труда подняться на ноги, свернулся клубочком и вновь закрыл глаза… В голове больше не возникало вопросов. Он чувствовал спокойствие и глубокую умиротворенность…
Когда Гримвуд очнулся, стряхнул с себя оцепенение и вполглаза взглянул вокруг, он понял, что не один. На полянах впереди и в тени деревьев за его спиной было звучание и движение, — звучание крадущихся шагов и движение множества темных тел. Звери проходили целыми рядами, покачивая спинами, гладкими и мохнатыми, — сотни, тысячи зверей. На эту картину падал свет луны, которая была в половине и плыла высоко в безоблачном небе; блеск звезд, алмазно сверкавших в ясной ночи, отражался в сотнях движущихся глаз, некоторые из них были на высоте нескольких футов над землей. Вся долина кишела жизнью.
Гримвуд присел на корточки; ближайшие к нему животные проходили на расстоянии вытянутой руки. Человек с удивлением, но без страха смотрел на непрекращающийся, бесконечный поток в бледных лучах луны и звезд, постепенно затухающих в преддверии рассвета.
Запах самого леса был для него в этот момент не слаще, чем резкий, острый, волнующий запах, исходивший от мохнатого потока красавцев зверей, который по мере движения мириадов косматых лап и туловищ волновался, как море, странным рокотом тоже напоминая море.
Звездный блеск фосфоресцирующих глаз был ему так же приятен, как свет ламп, освещающих потерявшему свой дом страннику дорогу к уюту и безопасности. Одним словом, вместе с этой дикой армией в его душу вливался глубокий уют, несущий в себе и сладость приглашения, и привет некоего магического возвращения домой…
Никакие мысли не посещали Гримвуда, но его чувства вздымались волной восхищения и понимания. Он был на своем месте по праву. Его природное начало вернулось к себе. В нем была спокойная уверенность, что после долгих и трудных скитаний в неведомых краях, где чуждые условности заставляли его быть неестественным и поэтому ужасным, невозможным, он наконец вернулся на родину. Здесь, в Долине зверей, он обрел мир, безопасность и счастье. Он наконец стал собой.
Нервы Гримвуда были натянуты как струны; чувства, обостренные до предела, отдавали ему полный, точный отчет обо всем, что происходило в долине. Мощное и прозрачное, как глубокий водный поток, из несказанной пространственной и временной дали поднималось в нем чувство давно позабытой памяти о том состоянии, когда жизнь его была полной и естественной. Могучие первобытные картины вспыхивали и гасли в его мозгу, не успев принять отчетливую форму.
Огромная армия животных окружала Гримвуда плотным движущимся кольцом; огромные волки сновали туда и сюда, совершая грациозные прыжки, красные языки свисали из пастей. Свободно смешиваясь с ними, переваливались громадные гризли, вовсе не такие неуклюжие, как обещали их кургузые тела, а быстрые и легкоподвижные; косолапая походка лишь маскировала ловкость и скорость. Они играли, изредка поднимаясь на задние лапы, забавные в своей массивности и силе; они были так близко, что человек мог бы коснуться их. Бурые и черные медведи были здесь же, среди них, им не было счета, огромным и малолеткам, — восхитительное множество.
Дальше, где поляны без деревьев предоставляли больше свободы для движения, в серебряном лунном свете поднималось море рогов и пантов, как миниатюрный лес. Необозримое стадо оленей собралось в огромный круг. Лоси, карибу, могучие вапити, тысячи более мелких оленей и антилоп заполнили лес. Гримвуд слышал, как сталкивались рога, как копыта рыли землю, чтобы освободить место вокруг. Он видел волка, нежно лизавшего раненое плечо гигантского быка-карибу. Отлив следовал за приливом, как в живом море, но волнами его были тела животных, населявших Долину зверей.
Под тихим светом луны звери сновали перед человеком. Они смотрели на него, словно узнавая и приветствуя.
Гримвуд уразумел и мир маленьких существ, образовывавших как бы мелкие течения в море, мельтешивших под ногами у более крупных животных. Эти смутно видимые им твари мелькали там и сям, исчезая и появляясь, слишком занятые своими делами, чтобы обращать внимание на него, как и их более крупные собратья, однако то и дело пробегая у него по спине, выскакивая слева и справа, забираясь и спускаясь по его ногам с чуть слышным топотком маленьких лапок и вновь бросаясь в общую кучу.
Сколько времени он так сидел, глядя на эту картину, счастливый, умиротворенный, достигший естественности, Гримвуд не знал, но это длилось достаточно долго для того, чтобы почувствовать слепое желание стать частью этого мира, стать еще ближе всем этим существам, просто раствориться в их массе. Он сам не заметил, как покинул свое моховое убежище и пополз к ним на четырех ногах, как и они.
Луна опускалась, словно утопая, за гигантский кедр, чья рваная крона просеивала лунный свет, дробя его на мельчайшие частицы. Звезды тоже побледнели. Светлая полоска зари занималась над горными вершинами на восточном краю долины.
Человек огляделся и увидел, что толпа зверей несколько раздалась в стороны, чтобы принять его в свои ряды, и что медведь водит носом по земле перед ним, как будто показывая ему удобный путь. Позади него в низкие ветви дерева вспрыгнул леопард, и он поднял голову, чтобы полюбоваться зверем.
В этот момент на сцену вторглась армия птиц — орлы, совы, райские птицы: их полет предварял рассвет. Гримвуд видел стаи и косяки, закрывшие собой бледнеющие звезды, пролетая с магическим шелестом крыльев. С дерева над его головой донеслось уханье филина, хотя и не зловещее…
Вдруг человек вздрогнул и попытался встать на ноги. Он и сам не знал, почему сделал это. Пытаясь найти равновесие в этом новом, как теперь казалось, непривычном положении, он коснулся рукой бока и нащупал что-то твердое. Он вытащил небольшую деревянную палочку, поднял ее к глазам и внимательно рассмотрел в лучах рассвета, вспомнил — или наполовину вспомнил, — что это такое, — и стал как вкопанный.
— Тотемная палочка, — промямлил Гримвуд едва слышно, впервые с момента попадания в долину вновь обретя человеческую память и речь.
По телу словно прошел ток; он выпрямился, вспомнил, как минуту назад полз на четвереньках, и ему показалось, что в мозгу его что-то прорвалось, приподнялась какая-то завеса, открылся шлюз… Память хлынула сквозь него.
— Я… я — Гримвуд, — прошептал он. — Тушалли оставил меня одного!..
Неожиданно что-то изменилось в поведении окружавших его зверей. Большой серый волк сел в метре от него, глядя в лицо человеку; сбоку огромный гризли переваливался с лапы на лапу; из-за его плеча уставился гигантский вапити.
Между тем рассвет приближался, солнце уже коснулось горизонта. Сейчас Гримвуд видел детали остро и отчетливо. Огромный медведь поднялся, балансируя на массивных задних лапах и раскинув передние, как будто руки для объятия, и сделал шаг ему навстречу. Крупный бык, с вызовом опустив рога, присоединился к нему. Внезапное возбуждение дрожью прошло по всей толпе, даже отдаленные ряды задвигались как-то по-новому, неприятным для него образом, тысячи голов поднялись вверх, лес усов задрожал, носы принюхивались.
Пораженный внезапным страхом, англичанин замер на месте. Без звука и без движения стоял он, обращенный лицом к страшной армии врагов, а белый свет занимающегося дня добавлял жути к картине, предварявшей гибель. Над ним в ветвях дерева сидел леопард, готовый прыгнуть, если он станет искать спасения на дереве, а еще выше — он знал — были тысячи стальных клювов, железных загнутых когтей, гневное биение зловещих крыльев.
Гримвуд вздрогнул: гризли коснулся его вытянутой лапой, волк присел перед смертоносным прыжком. В следующее мгновение он будет разорван в куски, растерзан, сожран… Наконец ужас разомкнул мускулы его гортани и языка, и он прокричал на последнем дыхании молитву, отчаянный вопль о помощи:
— Иштот! Великий Иштот, помоги! — кричал он, сжимая в руке забытую тотемную палочку.
И Краснокожий хозяин услыхал его.
Гримвуд сразу понял это, хотя из-за страха перед зверями был почти в беспамятстве. Исполинский индеец стоял перед ним. И, хотя фигура высилась прямо перед его лицом, заставив птиц усесться, а диких зверей — тихо свернуться на своих местах, она поднималась и из огромного отдаления, каким-то непостижимым образом заполняя собой, своим величием и могуществом все видимое пространство, всю долину с ее деревьями, бегущими ручьями, полянами и скалистыми останцами. Весь ландшафт обрисовывал эту сверхчеловеческую фигуру. Здесь были и размах могучего лука, и необычайной величины стрелы, здесь был весь Краснокожий хозяин. И в то же время весь вид, весь очерк лица и фигуры Иштота — была долина, и когда стал слышен голос — это был шепот долины, шорох деревьев и ветра, бегущей и падающей воды. солнце наконец вышло из-за хребта и дополнило очертания исполинской волшебной фигуры потоком слепящего света:
— Ты пролил кровь в моей долине… Тебе нет спасения!
И фигура вновь растворилась в солнечном лесу, растаяла в новорожденном дне. Гримвуд видел прямо возле своего лица сверкающие зубы, горячее дыхание медведя овевало его щеки, страшные лапы обхватили его тело тисками, как будто на него навалилась гора. Англичанин закрыл глаза и упал. Острый звук выстрела прошел мимо его сознания — он его уже не слышал.
Когда Гримвуд вновь открыл глаза, первое, что он увидел, был огонь. Он инстинктивно отпрянул.
— Все в порядке, старина. Мы быстро приведем тебя в норму. Не бойся ничего. — Он увидел склонившееся над ним лицо Айрдэла. За его спиной стоял Тушалли с распухшей щекой. Гримвуд вспомнил: ведь это он ударил индейца! Слезы потекли по его щекам.
— Больно? — сочувственно спросил Айрдэл. — На, глотни капельку, это тебе сразу поможет.
Гримвуд глотнул виски. Он пытался успокоиться, но не мог удержать слез. Боли не было, если не считать боли в душе, причину которой он вспомнить не мог.
— Черт, я весь раскис, — промямлил он со стыдом. — Нервы… Что это было?
— Медведь насел на тебя, старик. Но переломов нет. Тушалли спас тебя: выстрелил вовремя. Смелый выстрел — он мог бы попасть в тебя, а не в убийцу.
— В другого убийцу… — прошептал Гримвуд. Виски делало свое дело, и память понемногу возвращалась к нему. Он увидел озеро, каноэ на берегу, две палатки и движущиеся фигуры.
Айрдэл коротко рассказал ему все и велел отдыхать. Оказалось, что Тушалли без отдыха добрался до стоянки Айрдэла через сутки после расставания с Гримвудом. Стоянка была пуста: хозяин со спутником охотились. Когда к ночи они возвратились, индеец сказал им в своей лаконичной манере:
— Англичанин ударил меня, и я ушел. Сейчас он охотится один в Долине зверей. Думаю, уже мертв.
Айрдэл и его спутник тотчас же выступили в путь под предводительством Тушалли. Гримвуд успел уйти далеко, к счастью, оставляя заметные следы. Они шли по следу оленя и пятнам крови — и внезапно увидели человека в объятиях гигантского медведя. Тушалли выстрелил…
Индеец теперь живет хорошо, у него есть все, чего он хочет, а Гримвуд — его благодетель, но уже не наниматель — оставил охоту. Это теперь тихий, спокойный, мягкий человек, и люди удивляются только одному: почему он не женат.
— Из него получился бы отличный отец, — говорят о нем. — Это такой добряк!
Над изголовьем у Гримвуда висит тотемная палочка. Он говорит, что она спасла его душу, но подробно рассказывать об этом не любит.
* * *
Арнольд Беннет
Своевольная Мэри
В спальне маленького дома на Трафальгарской дороге, принадлежавшего Эдварду Бичинору, две первичные общественные силы — те силы, которые под тысячей названий и личин правят миром со времен изобретения политики, — столкнулись друг с другом в борьбе, по-видимому, бесплодной по причине равенства соперников.
Эдвард Бичинор имел деньги, был старше, и на его стороне было очевидное преимущество умирающего; у Марка Бичинора были молодость и стремление к идеалу. У окна отстраненно стояло молчаливое создание, чья проснувшаяся индивидуальность должна была действенно вмешаться на стороне одного из спорящих. Были ранние сумерки осеннего дня.
— Скажи мне, чего ты хочешь, Эдвард, — тихо попросил Марк. — Давай уже остановимся на чем-нибудь.
— Давай, — произнес страдалец, приподнимая над стеганым одеялом бледную руку. — Я скажу тебе. — Он увлажнил губы, готовясь говорить, и откинул назад прядь седых волос, мокрую от пота.
Контраст между двумя братьями был разительным. Эдварду было сорок девять; это был худой, не выросший человек, казавшийся начисто лишенным коварства и воображения. Он 35 лет прослужил помощником судьи Форда и тайно практиковал сам. За все это время он ни разу не изменил своему образу жизни, за исключением одного случая, год тому назад.
С четырнадцати лет он сидел на скамье в полутемной каморке, по одну сторону — «старик», по другую — Свод законов, и получал свои полкроны в неделю. В сорок восемь он все так же сидел на скамье в этой же каморке, потолок которой за это время трижды подвергался побелке, с тем же самым пресс-папье и Сводом законов, но зарабатывал 30 шиллингов в неделю. Однако теперь уже он сам, Эдвард Бичинор, был «старик», и другой непременный 14-летний паренек, — наверное, уже тридцатый по счету в «династии» офисных мальчишек, — сидел у него в помощниках.
На протяжении всей этой бесконечной и бесплодной временнóй пустыни он делал все одно и то же: принимал все те же решения, писал те же письма, вел те же счета, лгал все так же и мыслил все так же. Он не узнал ничего, кроме своего ремесла, и не позабыл ни о чем, кроме счастья. Он никогда не был женат и никогда никого не любил, не был повесой и вообще не уклонялся от респектабельности. Он был успешен, потому что выбрал цель и с помощью настойчивых усилий добился ее.
В глазах жителей Берсли это был очень приличный, морально устойчивый человек, настоящий бакалавр, знающий и образованный, хороший клиент, отличный чиновник, узколобый осел, экономный покупатель, интеллигентный гражданин — в зависимости от угла зрения.
Пожизненное следование сильной привычке повергло его в колею более глубокую, чем русло реки. Его мнения касательно любого предмета давно уже не менялись, и он, сам не зная того, являл собою часть фундамента величия Англии. В 1892 году, когда все Пятиградие было взбудоражено знаменитым наследственным делом семьи Уилбрахам, в котором мистер Форд участвовал на стороне защиты, Эдварда Бичинора, в то время 48-летнего, впервые оторвали от его скамьи и послали в Рио-де-Жанейро в составе комиссии, чтобы снять показания важного свидетеля, ни за что не соглашавшегося приехать домой.
Старый чиновник был полон гордости и чувства собственной значимости по причине своего избрания на эту роль, но мысль о путешествии наполняла его смутным беспокойством и тревогой. Он утратил гибкость и дрожал, подобно юной девице, когда ему предстояло получить какой-то новый опыт.
По пути из Рио-де-Жанейро судно на две недели задержали в карантине в Ливерпуле; там с ним и случился первый приступ лихорадки. Через восемь месяцев приступ повторился, и Бичинор слег в постель в последний раз, проклиная Провидение, семью Уилбрахам и Рио — всех вместе.
Марку Бичинору было тридцать — он был на 19 лет моложе брата. Высокий, нескладный, широкий в кости, он имел скорее свирепую и отталкивающую внешность, однако женщины, казалось, все без исключения любили его, хотя он редко снисходил до бесед с ними. Вероятно, в его диковато блестящих черных глазах было нечто, безмолвно взывавшее к их сочувствию и покровительству, придавая ему скромный и задумчивый вид, некую романтичность, контрастировавшую с громадной неуклюжей фигурой молчаливого слона.
Марк был управителем небольшой фабрики по производству фарфора в самом дальнем из пяти городов — Стаффордшире, в пяти милях от Берсли. Хорошо понимая в посудном деле, он тем не менее никак не мог заработать на нем. У него был мечтательный темперамент изобретателя. Это был человек идеи, который мог запросто забыть пообедать и спокойно жил дома посреди полного беспорядка и запустения.
Однажды он испортил на 150 фунтов хорошей посуды, обжигая ее в новой печи собственного изобретения; ему пришлось три года жестко экономить, чтобы заплатить за посуду и построить печь. Он был импульсивно и опрометчиво щедр, а субботние вечера и воскресные дни посвящал страстной пропаганде идей братства, свободы и равенства.
— Правду ли говорят, что ты собираешься жениться на дочери Сэмми Меллера из Хэнбриджа? — спросил Эдвард слабым, дрожащим голосом человека, измученного продолжительной болезнью.
Марк стоял в ногах у больного, опершись локтями о латунную спинку кровати. Как большинство мужчин, он чувствовал себя нервозно и как-то глупо в комнате больного, и деликатность предмета, вопрос о котором был так прямо поставлен, добавила ему смущения. Он быстро оглянулся на девушку у окна; та стояла к нему спиной.
— Возможно, — ответил он. — Я еще не делал формального предложения.
— Но у нее ведь, кажется, нет денег?
— Нет.
— Тогда тебе понадобятся для начала. Ты знаешь, Марк, семь лет назад я оформил завещание на твое имя.
— Спасибо, — поклонился Марк.
— Но это при условии, — добавил больной, нахмурившись, — что ты прекратишь свои социалистические разговоры. Я слышал, будто ты собираешься стать секретарем Трудовой Церкви в Хэнбридже или что-то в этом духе?
Хэнбридж — столица, метрополия Пятиградия, а его Трудовая Церковь — самая дерзкая и влиятельная из местных организаций, наполовину секретная, но неотступная и неутомимая, имеющая целью построить новый демократический рай и новую демократическую землю путем постепенной бескровной революции. Эдвард Бичинор прошептал это внушающее ужас название с горькой усмешкой ненависти человека, который, взобравшись высоко над уровнем толпы, горячо противится любому расширению или облегчению того трудного пути, который он преодолел.
— Да, меня приглашали занять эту должность, — ответил Марк.
— А за какую плату? — спросил старший брат с саркастической усмешкой на пересохших губах.
— Безвозмездно.
— Марк, дружок, — сказал старший, смягчаясь, — у меня есть семьсот фунтов и этот дом. Что ты думаешь об этом?
Даже когда весь мир с его богатствами навек уплывал из рук умирающего, сознание этого великого достижения расчетливости и самоограничения наполняло Эдварда Бичинора чувством удовлетворения. Сумма в семьсот фунтов, какую многие люди могли растратить в одну ночь и наутро забыть, казалась ему невероятно большой.
— Я знаю, ты всегда был очень бережлив, — вежливо сказал Марк.
— Оставь ты эту старую Трудовую Церковь, — старый Бичинор вложил в эту фразу весь свой остывающий пыл, — брось ее, и все это твое — и дом, и деньги.
Марк помотал головой.
— Хорошенько подумай! — сердито воскликнул больной. — Говорю тебе: ты можешь потерять все, до последнего шиллинга!
— Значит, придется это пережить.
Наступило молчание.
Каждый из братьев был непререкаем в своем решении, и другой знал это. Эдвард мог бы сказать: «Я умираю. Сделай это для меня, прошу». А Марк мог бы ответить: «В такой момент я могу сделать для тебя все — кроме этого. Этого я не могу. Прости».
Такой обмен любезностями, пожалуй, ослабил бы напряжение готовой лопнуть струны, однако мысль о том, что состояние Эдварда следует учитывать, не представлялась братьям приличной моменту, ибо сама природа обоих была жестокой, грубой, резкой.
Наконец больной повернулся набок со стоном.
— Позови адвоката, — сказал он, — я перепишу завещание.
Это было странное требование: все равно что велеть приговоренному к казни пойти поикать себе палача. Однако Марк ответил совершенно естественно:
— Хорошо. Мистера Форда, я полагаю?
— Форда? Ну нет! Неужели ты думаешь, что я позволю ему вмешиваться в мои семейные дела? Пойди к молодому Байнсу, он живет на нашей улице. Пусть идет немедля. Он должен быть дома в субботний вечер.
— Отлично. — Марк повернулся, чтобы выйти.
— Ну все, юноша, прощай. Не заходи в эту комнату, пока не узнаешь, что я в гробу. Понял?
Марк помедлил самую малость и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Однако девушка, до этого неподвижно стоявшая у окна, успела выскользнуть следом за ним.
Есть женщины, спокойные лица которых, кажется, всегда скрывают некую загадку. Мало кто знает их; чаще они проходят мимо вас на улице или сидят неподвижно, как сфинксы, в церкви или театре, но память об их чертах, неотступно возвращаясь, тревожит вас. Они могут принадлежать к любому классу общества: их можно встретить и в машбюро, и в алмазах. Часто у них тонкие, длинные губы и округлый подбородок, но главный их признак — тонкий, крутой вырез ноздрей и рисунок век.
Их взгляд и легкая улыбка как бы поощряют вас, хотя и носят оттенок злого превосходства. Когда они смотрят на вас из-под своих опущенных век, вы чувствуете, что у них есть своя скрытая внутренняя жизнь, далекая от обыденности, и что они знают много такого, что вам неизвестно. Как будто их души во время предыдущих воплощений соприкасались с тайными силами природы и получили таинственное безымянное качество, которое выше всех преходящих атрибутов красоты, мудрости и таланта. Они существуют, и этого достаточно — в этом их гений.
Может быть, они сами управляют теми тайными силами, может быть, являются их проводниками, может быть, они уже действительно знают (но не могут сказать) ответ на вечное «почему?», а может, они сами вовсе не загадка для своих простых душ, — этого никто не может с уверенностью утверждать.
Все, кто знал Мэри Бичинор в доме ее двоюродного брата, в часовне, на фабрике гончарных изделий Титуса Прайса, думали: «что-то в ней такое есть…» — и не договаривали фразы. Ей было двадцать пять, и последние семь лет она жила под одной крышей с Эдвардом после скоропостижной смерти своих родителей. Они договорились, что Эдвард будет ее содержать, а она — вести его хозяйство. Она настояла на разрешении работать самой и, чтобы чувствовать право на это, сама платила 18 пенсов в неделю девочке, приходившей делать ежедневную мелкую работу по дому.
Мэри Бичинор была художницей. Художницы Пятиградия как класс чем-то напоминают еще более знаменитых фабричных работниц из Ланкашира и Йоркшира — независимых до безобразия (благодаря высокой зарплате), любящих украшения и яркие цвета, громкоголосых, агрессивных, но при всем при этом достаточно приветливых, верных, пылких, как и остальные женщины Саксонии.
Художницы имели перед фабричными работницами то преимущество, что были более сдержанны в поведении, очевидно, благодаря тому, что их древнее ремесло требует большого терпения, да и работают они в более человеческих и спокойных условиях. Мэри Бичинор трудилась у Прайса в «отделе полос и линий» художественного цеха. Вы, наверно, не раз удивлялись геометрической точности широких и узких цветных полос по краям чашек и блюдец и даже, может быть, задумывались над тем, как это достигается. А эти линии рисовала рука девушки, верная, как рука самого Джиотто, с помощью простых инструментов — пары кисточек и маленького вертящегося столика — «карусели». 48 часов в неделю Мэри Бичинор просиживала возле своей «карусели».
Нажимая на педаль, она помещала чашку или блюдце на крутящийся диск, одним движением пальца придавала изделию центральное положение, а затем плотно прижимала к нему кисточку, обмакнутую в краску, и в три секунды чашку или блюдце опоясывала цветная полоска. Взяв другую кисть, она таким же манером наносила тонкую линию ниже полосы.
Это повторялось с большой скоростью, час за часом, неделя за неделей, год за годом. Мэри могла за день нанести узор более чем на тридцать дюжин чашек и блюдец, по полтора пенса за дюжину. Визитеры, которым Титус Прайс время от времени показывал свое ветхое предприятие, иногда спрашивали с любопытством: «Она что же, только это и делает?» — «Да, все то же», — отвечал хозяин, гордясь явлением столь незыблемой монотонии. — «Это удивительно. Как она выдерживает? У нее такое утонченное лицо», — и Мэри снова оставалась в одиночестве.
Ей даже не приходило в голову, что она делает монотонную работу. Это была ее работа — такая же естественная, как сон, как вязанье, которым она всегда занималась в обеденный перерыв. Спокойная и молчаливая регулярность работы стала частью ее самой, углубляя ее всегдашнюю неподвижность и налагая свою печать на ее внутреннее состояние. Она не дружила с другими художницами в цеху, не принимала участия в их более шумных занятиях, не поддерживала их разговоры, не интриговала с их мужчинами. Но девушки любили ее, уважали, сами не зная почему. Начальство же называло Мэри Бичинор «превосходной девушкой».
Итак, Мэри сбежала вниз следом за Марком. Он остановился в узкой прихожей, где едва могли разминуться двое, и взглянул на нее вопросительно. Девушка была невысокой и тоненькой и казалась рядом с ним просто малюткой. На ней была одна из ее лучших вещей — малиновое шерстяное платье, надетое, во-первых, ради визита врача, а во-вторых, ради субботнего вечера. Поверх платья надет был простой белый фартук. Холодные серые глаза сверкали гневом, щеки были бледны, опущенные углы рта говорили о презрительном негодовании. Куда подевалось приобретенное с годами невозмутимое спокойствие Мэри Бичинор! Однако Марк вначале даже не понял, что она возмущена, не увидел под бледностью и спокойствием этого лица внутренней бури.
Она взяла его за рукав и потянула в полутемный маленький кабинет, уставленный мебелью из красного дерева и конского волоса, восковыми цветами под стеклом, увесистыми томами с золотым обрезом.
— Это стыдно и жестоко! — прошептала она, как будто боясь быть услышанной умирающим на втором этаже человеком.
— Вы думаете, я должен был уступить? — спросил Марк краснея.
— Нет, — быстро сказала она, подойдя к нему и положив руку ему на плечо. Эта ласка, такая невинная, неожиданная и спонтанная, пронзила его как током. Эти двое были мало знакомы и едва ли встречались в последнюю неделю: Марк редко бывал в Берсли. — Вы не поняли меня: это ему должно быть стыдно. Я сердита неимоверно.
— Вы сердиты? — изумился он.
— Да! — Она подошла к окну и, подергивая шнур от гардин, смотрела на быстро темнеющую улицу за окном. — Так Вы собираетесь позвать адвоката? Я бы на Вашем месте не стала этого делать.
— Но я должен, — сказал Марк.
Она обернулась: — Но что он будет делать со своими драгоценными деньгами? — прошептала она.
— Ну… может быть, оставит Вам.
— Ну нет! Я к ним и не притронусь: они Ваши по праву. Может быть, Вы не знаете, но, когда я появилась в его доме, мне совершенно ясно дали понять, что я не могу рассчитывать ни на какое приданое. Кроме того, у меня есть свои деньги… Господи! Да не страдай он сейчас так сильно, я бы поговорила с ним об этом сама — в первый и последний раз за всю мою жизнь!
— Я Вас умоляю: ни слова ему об этом. Мне не нужны его деньги.
— Но их должны получить Вы! Забирая их у Вас, он поступает несправедливо!
— Что сказал доктор сегодня? — спросил Марк, желая поменять тему.
— Сказал, что надо ожидать кризиса в понедельник, и тогда Эдвард должен сразу умереть, как будто приняв синильную кислоту.
— Не раньше понедельника?
— Он так считает.
— Я, конечно, не обижаюсь на Эдварда. Я позвоню завтра утром и приду. Может быть, он ничего и не скажет, увидев меня. А Вы расскажете мне, что случится сегодня.
— Я не пущу адвоката в дом, — пригрозила она.
— Видите ли, — робко сказал Марк, выходя, — я Вам уже говорил, денег мне не надо — я мог бы их отдать на благотворительные цели; но, как Вы думаете, может, мне следует уступить, притвориться — ради его спокойствия, чтобы он умер тихо и мирно? Я бы не хотел, чтобы он умер, ненавидя…
— Никогда, ни за что! — воскликнула она.
Когда Мэри вошла обратно в комнату к Эдварду, он спросил с опаской, о чем они там только что говорили.
— Так, ни о чем, — ответила она с храброй и успокоительной интонацией. — Пора принимать лекарство, Эдвард.
Перед тем как дать больному лекарство, она выглянула в окно и проводила глазами фигуру Марка, скрывающуюся за поворотом дороги. Он, в свою очередь, уносил перед глазами ее образ. Он думал о том, что более сильного, более правдивого сердца он никогда не встречал, что эта удивительная девушка так жаждет правды и справедливости. А всего неделю назад он считал Мэри неплохой девушкой — но томной и вялой!
Часы уже пробили девять, когда мистер Байнс, адвокат, постучался у дверей. Мэри, поколебавшись, молча провела его наверх, в то время как он учтиво извинялся за то, что не смог прийти раньше. Это был молодой шотландец, выходец из провинции, купивший небольшую бесперспективную практику в городе и за два года превративший ее в немалый процветающий бизнес подвигом энергии, смелости и такта, — сочетание, секрет которого доступен некоторым шотландцам.
— Вот, Эдвард, мистер Байнс пришел, — тихо сказала Мэри и, поправив больному подушки, вышла на кухню.
Газовый рожок светил слабо, но она не стала усиливать свет. Придвинув старое дубовое кресло-качалку с сиденьем из камыша поближе к камину, в котором еще теплился огонь, она стала потихоньку покачиваться во мраке.
Примерно через полчаса на лестнице вверху прозвучал голос Байнса:
— Мисс Бичинор, Вы не могли бы подняться к нам сюда? Нам нужна Ваша помощь.
Она подчинилась, хотя и не сразу.
В спальне мистер Байнс, сидя на корточках возле камина и держа в зубах авторучку, побрасывал уголь в огонь. Когда она вошла, он поднялся.
— Мистер Бичинор пожелал изменить свое завещание, — сказал он, не выпуская авторучки изо рта. — И я прошу Вас быть свидетелем.
Маленькая комната казалась до отказа заполненной Байнсом: таким большим, мясистым и настойчивым он был. Вся мебель, даже комоды, на его фоне казалась кукольной, а Бичинор, слабый и изможденный, выглядел мертвым манекеном в постели.
— Ну, мистер Бичинор, — отряхивая руки, адвокат взял с туалетного столика свеженаписанную бумагу и, расправив ее на крышке картонной коробки, показал ее больному. — Вот ручка, я помогу Вам держать ее.
Бичинор взял ручку. Желтое морщинистое лицо его в неровных красных пятнах, как будто плохо загримированное, было покрыто испариной, и каждое нелегкое его движение, даже простое поднятие головы, показывало полное изнеможение. Он бросил на Мэри взгляд, полный недоверия и подозрений.
— Что в этом завещании? — спросила Мэри.
Мистер Байнс внимательно посмотрел на девушку, которая стояла подле больного с другой стороны, механически поправляя сбившиеся простыни.
— К тебе это не имеет отношения, — сказал Бичинор, недобро глядя на нее.
— Свидетелю не обязательно знакомиться с содержанием завещания, — сказал Байнс.
— Я ничего не подписываю не глядя, — возразила она с улыбкой, и глаза из-под полуопущенных век сверкнули на мистера Байнса.
— Ха! Я понимаю. Законная осторожность, влияние Вашего кузена. Но позвольте Вас уверить, мисс Бичинор, — это простая формальность. Завещание должно быть подписано в присутствии двух свидетелей; один из них — Вы, другой — я.
Мэри посмотрела на лицо умирающего с искаженными болью чертами и покачала головой.
— Скажите Вы ей, — прошептал тот в горьком отчаянии, падая на подушки и уронив ручку, которая оставила кляксу на одеяле.
— Ну ладно, мисс Бичинор, если это вам так необходимо… Завещатель, мистер Бичинор, оставляет своему брату Марку двадцать гиней в знак того, что он не держит на него зла и прощает ему. Все остальное имущество должно быть продано, а вырученные средства отданы в Северную Стаффордширскую больницу, где будет организована «койка Бичинора». Если что-нибудь останется, это отдать в Кассу взаимопомощи судебных чиновников. Вот и все.
— Я не желаю иметь ничего общего с этим.
— Да Вас никто и не заставляет, милочка. Вы лишь должны засвидетельствовать подпись завещателя.
— Я не буду свидетелем этого: я не хочу видеть это подписанным.
— Проклятая сучка, — слабо прошипел Бичинор. Он чувствовал, как у него крадут законные плоды многолетней утомительной бережливости. Эта девчонка не давала ему осуществить свою предсмертную волю! С ним, Эдвардом Бичинором, богатым и проницательным человеком, играли как с ребенком!
Он был слишком слаб, чтобы громко выразить возмущение, но мысленно от всего своего огорченного сердца проклинал Мэри.
— Позовите в свидетели кого-нибудь другого, — попросил он адвоката.
— Минуточку, — сказал Байнс. — Мисс Бичинор, Вы хотите сказать, что готовы пренебречь последним желанием умирающего?
— Я хочу сказать, что не желаю помогать умирающему совершить преступление.
— Преступление?
— Да, — отвечала она, — преступление. Семь лет назад мистер Бичинор завещал все своему брату Марку. Марк его единственный брат и вообще единственный родственник, не считая меня. Эдвард знает: мне не нужны его деньги. Северная Стаффордширская больница, о Боже! Конечно, преступление!.. Какое Вы имеете право, — обратилась она к Эдварду, — наказывать Марка только за то, что его политические взгляды…
— Это к делу не относится, — прервал ее адвокат. — Завещатель имеет право поступить со своим имуществом как ему угодно, не называя причин. Так что, мисс Бичинор, прошу Вас, будьте благоразумны.
Мэри замолчала.
— Да что с ней говорить… Пригласите другого свидетеля.
Больной даже приподнялся с подушек, произнося эти слова, но тут же упал обратно без сил.
Мэри промокнула ему лоб, убрав назад мокрую прядь спутанных волос. Эдвард со стоном открыл глаза. Байнс сложил завещание, положил его в карман и быстро вышел из комнаты.
Мэри слышала, как он открыл входную дверь, а затем вернулся к лестнице.
— Мисс Бичинор, — позвал он. — Можно Вас на минутку?
Мэри спустилась.
— Пройдемте на кухню, — продолжила она и включила поярче газовый рожок. — Здесь светлее, чем в прихожей.
Он облокотился на высокую каминную полку, она положила руку на белую поверхность стола из ели. Между ними на полу расположилась, мурча, черепаховая кошка.
— То, что Вы делаете, очень серьезно, мисс Бичинор. Как адвокат мистера Бичинора, я должен узнать истинные причины Вашего поведения.
— Я Вам их уже назвала. — Она смотрела насмешливо.
— Ну, касательно Марка… — вежливо продолжал адвокат, — мистер Бичинор объяснил мне. Брат бросил ему вызов.
— Но при чем тут завещание?
— Между прочим, Марк помолвлен. Можно узнать, не Вы ли его невеста?
Мэри промолчала.
— Если это так, — продолжал он, — то чисто по-человечески я восхищаюсь Вашей отвагой. Но, тем не менее, завещание должно вступить в законную силу.
— Невеста — мисс Меллер из Хэнбриджа.
— Я схожу позову чиновника из моей конторы. Вижу, что Вы упрямы и непостижимы. Через полчаса вернусь.
Когда он вышел, Мэри закрыла двери на все засовы и поднялась наверх.
Почти час прошел, пока снизу раздался стук. Мистеру Байнсу пришлось разбудить своего клерка. Но Мэри не пошла к дверям, а открыла окно в спальне и выглянула. Была мягкая, но беззвездная ночь. На Трафальгарской дороге было тихо, только паровой автомобиль с шумными гуляками, возвращавшимися из Хэнбриджа — этого центра увеселений — скользил, громыхая, по направлению к Берсли.
— Что вам угодно? Зачем вы тревожите добропорядочных граждан в ночное время? — произнесла она нарочито громким шепотом. Двери заперты, и я не могу выйти к вам. Приходите утром.
— Мисс Бичинор! Впустите нас. Я Вам приказываю.
— Бесполезно, мистер Байнс.
— Я взломаю двери! Я достаточно силен и настойчив. Вы заходите слишком далеко.
В следующую минуту двое внизу услышали скрип засовов. Мэри стояла перед ними слабо различимой в темноте, но запрещающей вход фигурой.
— Если это вам так необходимо — поднимайтесь, — холодно сказала она.
— Побудьте в коридоре, Артур, — сказал Байнс. — Я скажу, когда Вы понадобитесь. — И он поспешил по лестнице следом за Мэри.
Эдвард Бичинор лежал на спине. Его ввалившиеся глаза стеклянно уставились в потолок. Кожа на изможденном лице, обтянувшая выступающие кости, утратила свой лихорадочный румянец. Теперь она была зеленоватой, белой, желтой… Рот был широко раскрыт. Черты лица носили устрашающе саркастическую печать — простой физический результат болезни, — однако двум зрителям показалось, что этот жалкий и разочарованный раб собственной бережливости одним усилием воображения осуществил всю полноту человеческих желаний и намерений.
— Можете идти. Вы не понадобитесь, — сказал мистер Байнс, возвращаясь, клерку.
Адвокат никому не рассказывал о том, что произошло этой ночью. Да и зачем? Для чего?
Марк Бичинор по старому завещанию унаследовал семьсот фунтов и дом своего брата.
Мисс Меллер из Хэнбриджа так и остается мисс Меллер — ее руки формально не просили. Но Марк, секретарь Трудовой Церкви, женат. Мисс Меллер, с вполне простительным вздохом превосходства, называет его жену «странноватым тихим маленьким существом, которое и мухи не обидит».
* * *
Роберт Льюис Стивенсон
Дверь в замке Малетруа
Дени де Больё не было и двадцати двух лет, а он считал себя взрослым мужчиной. В то время, грубое и воинственное, молодые люди формировались рано — если ты побывал в бою и участвовал в дюжине рейдов, убил врага и знаешь кое-что о стратегии, некоторое щегольство в походке вполне простительно.
Он поставил на конюшню свою лошадь, обиходив ее с должной заботой; не спеша отужинал в гостинице, а затем в прекрасном расположении духа вышел в сумерках навестить друга. Было бы гораздо мудрее остаться у огня и завалиться спать, так как город был полон войск Бургундии и Англии, и, хотя у молодого человека был пропуск, никакой пропуск не помог бы ему в случае стычки.
Стоял сентябрь 1429 года. Резко похолодало; капризный ветер со свистом нес над городом дождевые тучи, а по улицам — опавшие листья. То тут, то там в окнах вспыхивал свет; слышно было, как военные люди весело ужинают; шум веселья подхватывал и уносил ветер. Ночь быстро спускалась на город; английский флаг, плескавшийся на шпиле, становился все менее заметен на фоне плывущих облаков — как ласточка среди зловещего, свинцового хаоса небес. По мере того как спускалась темнота, ветер усиливался и уже завывал под арками и ревел в кронах деревьев в долине под городом.
Дени де Больё шел быстро и вскоре уже стучал в дверь дома своего друга. И хотя он обещал себе не задерживаться и вернуться пораньше, его встретили так приветливо и было столько причин задержаться, что он распрощался с хозяевами на пороге уже далеко за полночь.
Ветер стих, ночь была темна, как могила; ни звездочки, ни проблеска луны не пробивалось сквозь пелену туч. Молодой человек был мало знаком с извилистыми переулками города; даже при дневном свете ему было бы нелегко найти дорогу, в абсолютной же темноте он и вовсе заблудился. В одном он был уверен — что надо подниматься в гору (так как дом его друга находился в нижнем конце, «в хвосте» города, а гостиница — выше, «в головах», вблизи огромного собора). Памятуя об этом, он настойчиво шел вверх, то выходя на более открытые места, где был виден изрядный кусок неба над головой и полегче дышалось, то вновь пробираясь по узким улочкам вдоль стен домов.
Есть что-то таинственное и жуткое в таком погружении в темноту в почти незнакомом городе. Тишина кажется угрожающей. Нечаянное касание рукой холодного оконного переплета вызывает дрожь, как прикосновение к жабе; неровности мостовой буквально вытряхивают из вас душу; участок более черный, чем окружающая темнота, представляется ямой или засадой на пути, а там, где чуть посветлее, дома надевают странное, угрожающее обличье и как будто сбивают вас с пути. дени чувствовал себя неуютно и на каждом углу останавливался, чтобы осмотреться: ему надо было вернуться в гостиницу, не привлекая внимания.
Некоторое время он пробирался по такому узкому переулочку, что мог вытянутыми руками одновременно коснуться стен противоположных домов. вдруг переулок стал шире и явно пошел под гору. Это направление движения не устраивало молодого человека, но он настолько устал от темноты, что жаждал хотя бы выбраться на более светлое место для рекогносцировки. Переулок заканчивался террасой, обнесенной стеной, в щели которой, как в амбразуры, видна была лежавшая на несколько сотен футов ниже долина, где кроны деревьев колыхались от ветра и единственным ярким пятном была река.
прояснялось; небо постепенно светлело, стали видны края туч и темная линия холмов на горизонте. Можно было рассмотреть, что небольшой замок слева построен с большой претензией: колонны, пилястры, округлый силуэт часовни, резной карниз, дверь, укрытая в глубоком подъезде с портиком, украшенным лепными фигурами; козырек поддерживался двумя длинными горгульями.
Окна часовни светились сквозь цветные стекла, вероятно, внутри горело много свечей; от этого острая крыша часовни и все архитектурные излишества дома еще отчетливее выступали на фоне темного неба. Это могла быть гостиница какой-то богатой и знатной семьи; она напомнила Дени его собственный дом в родном городе, и он некоторое время стоял, любуясь зданием и поневоле сравнивая.
Казалось, что на террасу нет другого выхода, кроме того переулка, которым он сюда зашел; приходилось просто повернуть обратно; теперь, когда Дени удалось немного осмотреться, он надеялся быстро найти свою гостиницу. Но, не пройдя и ста ярдов, он увидел, что навстречу ему движется свет, и услышал громкие голоса, перебивая друг друга звучавшие в переулке. Это был ночной дозор с факелами. Дени ясно осознал, что все говорившие хорошо приложились к бутылке и едва ли расположены вдаваться в такие тонкости, как пропуска и прочие бумажки. Они вполне могли убить его как собаку и оставить лежать в переулке. Однако он надеялся, что свет их собственных факелов скроет его от их взоров, а громкие, будящие эхо голоса заглушат его шаги. Так что вполне можно было избежать столкновения, если быстро идти и стараться не шуметь.
К несчастью, повернув вспять, он поскользнулся на мостовой и упал, больно ударившись о стену, не удержался от возгласа, да и меч звякнул о камень. Два или три голоса окликнули: «Кто идет?», кто по-английски, кто по-французски; Дени не ответил и побежал вглубь переулка. Оказавшись на террасе, он оглянулся. Ему кричали вслед и начали преследование: слышно было бряцание оружия, свет факелов метался туда-сюда.
Дени ничего не оставалось, как нырнуть в подъезд. Здесь он мог спрятаться или, если не удастся, принять бой — это была лучшая позиция для защиты. Он вытащил меч из ножен и прислонился к двери спиной. Как это ни странно, дверь подалась под его весом и, хотя он тут же отпрянул, открылась на бесшумных, хорошо смазанных петлях, как будто приглашая войти.
Когда события складываются для человека удачно, он не склонен размышлять, как и почему это случилось, полагая свое собственное сиюминутное удобство достаточной причиной для странностей и превращений под луной. Так и Дени, ни минуты не колеблясь, ступил внутрь и слегка прикрыл за собой створки двери, чтобы скрыться от преследователей. Он вовсе не собирался закрывать ее совсем — Боже упаси! — однако, неизвестно почему, массивная дубовая дверь вырвалась из его пальцев и захлопнулась со щелчком, как будто упал автоматический затвор.
Погоня в этот момент ворвалась на террасу и искала его с криками и проклятьями по темным углам; он слышал даже, как в дверь стукнул черенок копья, но джентльмены, очевидно, были в слишком хорошем настроении, чтобы надолго задерживаться, и вскоре уже шли зигзагами обратно по переулку, пока напряженный слух Дени не перестал различать их удаляющиеся шаги.
Молодой человек перевел дыхание. Он выждал несколько минут, чтобы дать им уйти подальше и успокоиться, а затем стал искать, как бы выскользнуть наружу. Однако внутренняя поверхность двери была совершенно гладкой: ни ручки, никакой неровности вообще, — не за что зацепиться. Он просунул ногти в щель, но тяжелый дубовый массив не двинулся. Он толкнул дверь — она стояла как скала.
Дени де Больё нахмурился и беззвучно присвистнул. Что такое с этой дверью? Почему она была открыта? Почему закрылась за ним так легко, как нарочно? Это казалось западней, хотя откуда быть западне в таком тихом переулке и тем более в доме такой благородной и богатой наружности? Однако, что ни говори, намеренно или ненамеренно — а он пойман в ловушку, и выхода из нее не видно.
Темнота давила на глаза. Юноша прислушался: было тихо, хотя внутри дома, недалеко от себя, он слышал слабые вздохи, легкий шелест, как будто скрип половиц под крадущимися шагами; впечатление было такое, что где-то вблизи, буквально под боком находятся люди, старающиеся быть бесшумными, затаив дыхание. Мысль об этом была так неприятна, что Дени поневоле напрягся, готовый защищаться.
И тут он впервые заметил свет: примерно на уровне глаз в некотором отдалении светилась вертикальная полоска, снизу пошире, сверху поуже — как будто свет исходил из-за занавеси, двумя крыльями закрывавшей некую дверь, Что-то увидеть было уже большим облегчением для молодого человека — словно клочок твердой земли под ногами утопающего в трясине. Его ум сразу ухватился за этот луч света, пытаясь воссоздать целостную картину того, что его окружает. По-видимому, от места, где стоял Дени, до источника света был пролет ступенек; кроме того, он был уверен, что видит еще одну световую нить, тонкую, как игла, и слабую, как фосфоресценция: возможно, отражение первой в полированном дереве перил.

С тех пор как он начал подозревать, что он не один, сердце его билось с подавляемым гневом, и неутолимое желание хоть что-то делать, как-то действовать владело его душой. Он понимал, что смертельно рискует. Но самое естественное было — подняться по ступенькам, поднять занавес и встретиться с опасностью лицом к лицу. По крайней мере, тогда он имел бы дело с чем-то определенным, а не стоял бы тут в темноте и полной неизвестности. Дени медленно, вытянув руки, ступил вперед, и вскоре нога его коснулась нижней ступеньки лестницы; он быстро пересчитал их ногами, помедлил мгновение, откинул занавесь и вошел.
Он оказался в просторной зале, облицованной полированным камнем; в ней было еще две двери, все три занавешенные одинаково. В четвертой стене было два окна и высокий камин между ними с изображенным на нем гербом Малетруа. Узнав его, Дени обрадовался, что он в таком хорошем доме. В комнате было светло, но из мебели был только тяжелый стол и пара стульев, огонь в очаге не горел, да и пол мог быть почище.
На высоком стуле возле камина, прямо напротив Дени, лицом к нему сидел старый джентльмен небольшого роста в меховом палантине. Он сидел, скрестив ноги и сложив руки на коленях; чаша с вином стояла у его локтя на консоли стены. Весь облик старика носил печать мужественности: может быть, не столько человеческой, но такой, какую можно ощутить при взгляде на быка, козла или вепря; в нем инстинктивно чувствовалось что-то двусмысленное и лживое, что-то жадное, жестокое и опасное… Верхняя губа толстая, словно распухшая от удара или флюса; улыбка, изломанные брови, маленькие глазки с почти комически злым выражением… Седые волосы красиво обрамляли крупную голову, как у святого, и общим завитком падали на грудь. Борода и усы старика были воплощением респектабельности. Возраст, вероятно, вследствие принятых мер, не отразился на руках; а кисть Малетруа была знаменита. Трудно себе вообразить что-либо одновременно настолько пухлое и изящное. Чувствительные суживающиеся пальцы напоминали пальчики женщин с портретов Леонардо; ногти были безукоризненной формы и странно белого цвета; во всем очерке кисти сквозило благородство.
При виде этой картины возникало недоумение: человек с такими руками сидит, мирно сложив их на коленях, как святая дева-мученица, а при этом на лице у него отражается ярость, и он смотрит перед собой немигающим взглядом, как статуя индийского божка. Эта неподвижность казалась ироничной и угрожающей.
Таков был Ален, сэр де Малетруа. Дени и он молча глядели друг на друга секунду или две.
— Прошу Вас, входите, — сказал Малетруа. — Я вас ожидаю весь вечер.
Он не поднялся, но сопроводил свои слова улыбкой и легким вежливым поклоном. То ли от улыбки, то ли от странного музыкального бурчания, предварившего поклон, Дени внутренне содрогнулся. Будучи смущен всем происходящим, он с трудом подбирал слова для ответа.
— Боюсь, что это двойное недоразумение. Я не тот человек, за которого вы меня принимаете… Мне кажется, вы ждали гостя, но я, поверьте, вторгся в ваши пределы без какого-либо желания с моей стороны.
— Ну, ну, — отозвался старик примирительно, — вы здесь, и это главное. Присядьте, друг мой, и будьте как дома. Сейчас мы все решим.
Дени понимал, что недоразумение продолжается, и поспешил продолжить объяснение.
— Ваша дверь… — начал он.
— А, дверь? — поднял брови старик. — Дверь — пустяки. — Он пожал плечами. — Так вы говорите, что вовсе не желали знакомиться со мной? Мы, старики, часто сами напрашиваемся на такое пренебрежение, но, когда оно затрагивает нашу честь, мы находим способ преодолеть его. Вы вошли без приглашения, но, поверьте, очень кстати.
— Но вы настаиваете на своем заблуждении, сэр, — сказал Дени. — Между вами и мной не может быть вопросов. Я в этой части города оказался совершенно случайно. Меня зовут Дени, фамилия — де Больё. И если я сейчас тут, у вас, — то это…
— Мой новый друг, — прервал его собеседник, — позвольте мне иметь свое собственное мнение на этот счет. Возможно, оно и отличается от Вашего, — добавил он, злобно глядя на юношу, — но время покажет, кто из нас прав.
Дени решил, что имеет дело с безумцем. Он сел, пожав плечами и ожидая, что будет дальше. Пауза затягивалась; из-под занавеси напротив доносилось монотонное бормотание молитв: иногда был слышен один голос, иногда — два; страстность голоса выдавала либо спешку, либо сильное чувство. Дени понял, что занавесь скрывает вход в часовню, которую он видел с улицы.
Старик между тем мерил его оценивающим взглядом с головы до пят, продолжая улыбаться и издавая время от времени щебечущие звуки, как птичка или мышка, что, по-видимому, выражало у него высшую степень удовлетворенности. такое положение дел становилось для молодого человека непереносимым, и Дени, чтобы положить этому конец, вежливо заметил, что ветер, кажется, ослаб.
Старик впал в приступ немого хохота, такой долгий и сильный, что все лицо его покраснело.
Дени вскочил на ноги и одним махом надел шляпу.
— Сэр, — сказал он, — если Вы в своем уме, то Вы меня оскорбляете. Если же нет, то я уверен, что могу найти своему собственному уму лучшее применение, чем беседа с безумцем! У меня с головой все в порядке, Вы же с самого начала сделали из меня идиота. Вы не слушаете моих объяснений… Ничто более не задержит меня здесь, в этом доме, и если я не смогу покинуть его более пристойным образом, то просто изрублю в куски Вашу проклятую дверь!
Сэр де Малетруа поднял правую руку и выставил указательный палец и мизинец в сторону Дени:
— А ну-ка, сядь, племянничек!
— Какой я Вам племянничек, — возмутился Дени. — Вы лжете!
— Сядь, ты, негодяй! — крикнул старик неожиданно грубым, лающим голосом. Неужели ты воображаешь, что я ограничился этой маленькой хитростью с дверью? Если хочешь, чтобы тебя связали по рукам и ногам, — пожалуйста, можешь попытаться уйти. А хочешь остаться на свободе — юным денди, вежливо разговаривающим со стариком, — сиди там, где сидишь, и Бог с тобой.
— Вы хотите сказать, что я в плену? — потребовал Дени.
— Я лишь констатирую факты, — был ответ. — А ты можешь делать выводы, если хочешь.
Дени снова сел. Он старался сохранить внешнее спокойствие, хотя внутри у него все кипело от гнева. теперь гнев остужался недоумением: он понял, что этот старик — не сумасшедший. Но тогда что ему надо? Что за нелепое или трагическое приключение постигло его? Чего ему ожидать теперь?
Пока он таким образом размышлял, занавесь над дверью в часовню приподнялась, и вошел высокий священник в облачении; он посмотрел на Дени долгим внимательным взглядом и сказал что-то вполголоса сэру де Малетруа.
— Как у нее настроение? — спросил тот.
— Немного успокоилась, сэр, — был ответ.
— Помилуй Бог, ей трудно угодить! — усмехнулся старик. — Неплохой парнишка, и из хорошей семьи, да и чего бы еще надо этой негоднице?
— Ситуация необычная для юной девицы, — ответил священник, — это большое испытание для нее.
— Она должна была раньше об этом думать… Бог свидетель, это не мой выбор; но, если она начала, пусть доведет дело до конца. — и, обернувшись к Дени:
— Месье да Больё, могу я представить Вас моей племяннице? Ручаюсь, она ожидала Вашего прихода еще с большим нетерпением, чем я.
Дени решил обуздать себя: его единственным желанием было узнать поскорей, насколько плохо его положение; итак, он встал и поклонился как можно учтивей. Сэр де Малетруа последовал его примеру и поковылял, поддерживаемый капелланом, к дверям часовни. Священник откинул занавесь, и все трое вошли внутрь.
Здание часовни было спроектировано с большим мастерством. От шести массивных колонн кверху поднимались легкие ребра свода, а посредине с потолка свисали две роскошные люстры. Позади алтаря, где здание округло заканчивалось, стена была украшена лепниной и прорезана множеством маленьких окошечек в форме звездочек, трилистников, кружков. Эти окошечки были не полностью застеклены, и ночной воздух свободно проникал внутрь часовни. Пламя свечей, которых только в алтаре горело не менее полусотни, от этих дуновений колебалось, искрилось, и свет проходил через все стадии от яркого горения до почти полного затухания.
На ступеньках перед алтарем на коленях стояла юная девушка в богатом подвенечном уборе. Увидев ее наряд, молодой человек похолодел: он с отчаянием отгонял от себя напрашивающуюся мысль… Этого не может быть… не должно быть…
— Бланш, — обратился к ней Сэр в весьма миролюбивом тоне, — я привел твоего дружка; повернись же к нам и подай ему свою ручку. Хорошо быть благочестивой, но вежливой быть тоже необходимо, моя дорогая.
Девушка поднялась на ноги и повернулась к вошедшим. Стыд и изнеможение читались в каждой черточке ее юного тела; она медленно приближалась к ним, опустив голову и глядя под ноги. И тут взгляд ее упал на обувь молодого человека (а надо сказать, что Дени следил за своими ногами и в любых ситуациях — и на войне, и в путешествиях — носил элегантную обувь). Девушка остановилась, вздрогнув, как будто желтые сапоги вдруг разбудили ее, и взглянула юноше в лицо. Их глаза встретились; стыд в ее взоре сменился ужасом; губы побелели; с пронзительным криком она закрыла лицо руками и осела на пол часовни.
— Это не он! — воскликнула она. — Дядюшка, это не тот человек!
Сэр де Малетруа согласно покачал головой: — Ну, разумеется, милая моя. Я так и думал. Жаль, что ты не смогла вспомнить его имя.
— Да ведь я на самом деле, — плакала девушка, — я на самом деле никогда в жизни не видела этого человека. И вовсе не желаю его видеть! Сэр, — обратилась она к Дени, — если Вы джентльмен, Вы согласитесь со мной. Разве мы с Вами когда-нибудь встречались до этого проклятого часа?
— Если говорить обо мне, то я не имел удовольствия, — учтиво ответил юноша. — Мессир, я сегодня впервые вижу Вашу очаровательную племянницу.
Старый джентльмен пожал плечами.
— Мне, конечно, очень жаль это слышать, — сказал он, — но ведь лучше поздно, чем никогда. Когда я сам женился, я немногим более знал свою будущую жену, чем вы друг друга; и это лишь доказывает, — добавил он с гримасой, — что скоропалительные браки могут привести к прекрасному взаимопониманию в будущем. Но, поскольку жених должен иметь свой голос в этом деле, я дам ему два часа, чтобы восполнить упущенное время, и приступим к церемонии.
Он повернулся и пошел к выходу, сопровождаемый священником.
Девушка вскочила на ноги.
— Дядюшка, но Вы же не хотите стать убийцей! Я объявляю перед Богом, что заколю себя кинжалом, прежде чем соглашусь на такое принуждение! Все во мне противится этому… Да и Господь запрещает такие браки! Вы бесчестите свои седины! О, дядюшка, сжальтесь надо мной! Любая женщина в моем положении лучше согласится умереть, чем подвергнуться такому позору! Да, может быть, — вдруг оборвала себя она, — может быть, Вы мне не верите, Вы думаете, что вот это, — она указала на Дени с дрожью и негодованием, — это тот самый человек?
— Разумеется, — заявил старик, помедлив на пороге. — Но я объясню тебе раз и навсегда, Бланш де Малетруа, что я думаю обо всем этом деле. Когда ты решила обесчестить мою семью и имя, которое я ношу, в мире и на войне, более шестидесяти лет, ты навсегда утратила не только право задавать мне вопросы, но и смотреть мне в глаза. Если бы твой отец был жив, дорогая моя, он бы просто плюнул на тебя и выставил за дверь. У него была железная рука.
Моли Бога, что тебе приходится иметь дело с бархатной ручкой, мадемуазель. Мой долг выдать тебя замуж немедленно. Исходя из самых лучших побуждений, я сделал все, чтобы доставить тебе твоего любезного. И думаю, что преуспел в этом. Но, клянусь Богом и святыми Ангелами Его, если я тебе не угодил, моей вины тут нет. Советую тебе, моя крошка, быть повежливей со своим дружком; иначе, уверяю тебя, следующий твой жених может оказаться гораздо хуже!
Сказав это, он вышел, священник последовал за ним, и занавесь за ними закрылась.
Девушка, сверкая глазами, обратилась к Дени и потребовала.
— Что это все значит, сэр?
— Бог весть, — печально ответил Дени. — Я пленник в этом доме, который представляется мне притоном душевнобольных. Больше я ничего не знаю и ничего не понимаю.
— Да как Вы попали сюда? — умоляюще спросила девушка.
Он коротко рассказал ей все, что с ним произошло.
— Ну, а теперь, — добавил он, — последуйте и Вы моему примеру, дайте ответ на все эти загадки. Чего нам, Бога ради, ждать от всего этого?
Она помолчала минуту; губы ее дрожали, а сухие глаза лихорадочно горели. Она сжала руками лоб.
— Как голова болит! — устало произнесла девушка, — а что уж говорить о моем бедном сердце! Но Вы должны узнать мою историю, какой бы безумной и нескромной она Вам ни показалась. Меня зовут Бланш де Малетруа, у меня нет отца и матери уже — о! сколько я себя помню, и конечно, всю свою жизнь я была несчастной. Где-то три месяца тому назад рядом со мной в церкви во время мессы стал останавливаться молодой капитан. Я видела, что нравлюсь ему…
Я, наверно, очень виновата, но мне было так приятно думать, что хоть кто-то может любить меня; и когда он передал мне письмо, я взяла его домой и прочла с удовольствием. С тех пор он написал мне много писем. Но ему, бедняге, так хотелось поговорить со мной с глазу на глаз! И он все просил меня однажды вечером оставить дверь незапертой, чтобы мы могли сказать друг другу пару слов на лестнице. Потому что он видел, как мой дядюшка обходится со мной…
При этих словах она всхлипнула и, помедлив, продолжала.
— Мой дядя тяжелый человек, он очень хитер, — наконец вымолвила она. — Он совершил многие подвиги на войне, он был большим человеком при дворе, ему когда-то очень доверяла Королева Изабелла. Как он заподозрил меня, я не могу понять; но от него ничего не скроешь, и сегодня утром, когда мы вернулись с мессы, он взял мою руку в свою, заставил разжать кулак, забрал маленькую записку и прочел ее, идя рядом со мной. Прочитав, он вежливо возвратил ее. В ней содержалась очередная просьба капитана оставить дверь незапертой… и вот тут-то и настал конец всему!
Дядя до вечера продержал меня взаперти в моей комнате, а затем велел одеться так, как Вы видите. Такой вот издевательский маскарад… Я полагаю, что, не узнав от меня имени молодого человека, он подстроил ему ловушку, в которую — увы! — по Божьему гневу попались Вы.
Я ожидала большого конфуза; ведь я не знала, собирается ли капитан на мне жениться. Может быть, он с самого начала просто шутил со мной, а может, я казалась ему доступной, кто знает? Но я и не помышляла о таком суровом и постыдном наказании. Я никогда не думала, что Бог попустит юной девушке быть так опозоренной перед незнакомым человеком… Ну вот, я Вам все рассказала; теперь можете презирать меня, если хотите.
Дени отвесил ей уважительный поклон.
— Вы мне оказали большую честь своим доверием, мадам, — и мне остается только доказать, что я достоин этого доверия. Мессир де Малетруа далеко?
— Я полагаю, он в зале сидит и пишет.
— Можно, я провожу Вас к нему, мадам? — спросил Дени, светски предлагая ей опереться на его руку. Они вместе вышли из часовни, Бланш — понуро опустив глаза, а Дени — гордо, с решимостью осуществить свою миссию и мальчишеской уверенностью в том, что без труда справится с поставленной задачей.
Сэр де Малетруа поднялся им навстречу с иронической почтительностью.
— Сэр, произнес Дени со всей возможной церемонностью, — я думаю, что мне есть что сказать в отношении этой женитьбы. Позвольте мне заявить, что я не намерен силой вырывать у этой юной леди согласие на брак. Если бы это было мне предложено на условиях свободного выбора, я почел бы за честь просить ее руки, поскольку признаю ее не только красивой, но и благородной, но теперь, в создавшейся ситуации, отказываюсь от этой чести.
Бланш смотрела на юношу с благодарностью, а старый джентльмен все улыбался и улыбался, пока Дени не стало тошно от его улыбки.
— Боюсь, месье де Больё, вы неправильно поняли выбор, который я Вам предлагаю. Прошу Вас, подойдемте со мной к этому окну. — И он подошел к одному из больших окон, открыв его в ночную тьму. — Видите, — сказал он, — на верхнем ярусе каменной кладки железное кольцо и продетую в него весьма нешуточную веревку? Так вот, учтите: если Вы не измените своего намерения по поводу свадьбы с моей племянницей, то ближе к рассвету я прикажу повесить Вас на этой веревке. Смею Вас уверить, что такой экстремальный исход доставит мне величайшее сожаление. Поскольку желаю я вовсе не Вашей смерти, а устройства жизни моей племянницы. Между тем все идет именно к этому, если Вы проявите упрямство.
Ваш род, месье де Больё, по-своему знатен и славен. Но будь вы того знатней, вы не можете безнаказанно отказаться от руки девицы, предложенной Вам семьей де Малетруа, будь она даже потрепана, как проститутка на дороге в Париж, или страшна на вид, как горгулья над моей дверью. И дело тут не в Вас, и не в моей племяннице, и не в моих собственных чувствах, поверьте. Честь моего дома и рода скомпрометирована, виновником происшедшего я считаю вас, и вряд ли Вы удивитесь, что я требую смыть пятно, брошенное на репутацию дома. Если вы не согласитесь — берегитесь! Мне не доставит удовольствия наблюдать, как подошвы Ваших красивых сапожек болтаются у меня над окном на ветру, — но лучше хоть что-то, чем ничего. Если я не могу избежать бесчестия, то хотя бы прекращу этим скандал.
Наступила пауза.
— Я все-таки думаю, что есть другие способы уладить недоразумение между джентльменами, — сказал Дени. — Вы носите меч, и я слышал, владеете им изрядно.
Сэр де Малетруа сделал знак капеллану; тот молча широкими шагами пересек комнату и приподнял завесу над третьей дверью. Секунды хватило, чтобы увидеть за ней коридор, полный вооруженных солдат.
— Если бы я был немного помоложе, с удовольствием принял бы Ваш вызов, месье де Больё, — сказал Сэр Ален, — но сейчас я слишком стар для этого. Однако у меня есть верные воины, и я пользуюсь их силой. Одна из самых тяжелых и неприятных вещей для мужчины — чувствовать, что стареешь; но если иметь толику терпения, то и к этому вполне можно привыкнуть.
Если Вам и леди удобнее провести оставшееся от двух часов время в зале, чем в часовне, я не буду препятствовать.
Он поднял руку, заметив опасный взгляд Дени де Больё.
— Если ваш ум протестует против повешения, у Вас остается достаточно времени, чтобы выброситься из окна или попасть на пики моих защитников. Два часа жизни — в любом случае два часа. Множество вещей может случиться за такое короткое время, как это. И кроме того, насколько я могу судить, у моей племянницы есть что сказать Вам. Необходимость вежливого отношения к женщине не отравит Вам последние часы?
Дени посмотрел на Бланш; она сделала умоляющий жест.
По-видимому, старику понравился этот признак понимания; он взглянул на молодых людей с улыбкой и елейным голосом добавил: — Если Вы дадите мне слово чести, месье де Больё, до истечения двух часов не принимать никаких отчаянных решений, я удалю своих воинов и позволю Вам поговорить с мадемуазель в более приватной обстановке.
Дени снова посмотрел на девушку; она, похоже, не возражала.
— Даю слово чести, — сказал молодой человек.
Мессир де Малетруа поклонился и пошел по зале, прочищая горло с тем самым музыкальным чириканьем, которое так раздражало Дени де Больё. Сначала он взял со стола свои бумаги, потом подошел к двери в коридор, отдав воинам приказ удалиться, и в конце концов удалился сам в ту дверь, через которую сегодня ночью — еще так недавно! — себе на беду вошел в эту залу Дени. На пороге он оглянулся и послал юной паре лучезарную улыбку, затем, сопровождаемый капелланом, держа в руках лампу, наконец-то закрыл за собою дверь.
Когда они остались одни, Бланш протянула руки к Дени. Лицо ее было пунцовым, глаза блестели от слез.
— Вы не умрете! — воскликнула она. — Вы в конце концов женитесь на мне.
— Вы, должно быть, думаете, мадам, что я очень боюсь смерти?
— О, нет, нет, — возразила она, — я знаю, что Вы далеко не трус. Вы сделаете это ради меня: я не перенесу, чтобы Вы погибли из-за своей порядочности.
— Боюсь, — ответил Дени, — что Вы недооцениваете трудность, мадам. Вы слишком щедры, чтобы отказаться, но ведь и я могу быть слишком горд, чтобы принять Ваше согласие. Сиюминутное благородное чувство ко мне может заставить Вас забыть обещания, данные другим.
Говоря это, он из такта не глядел на девушку, чтобы не видеть ее смущения. Она постояла секунду молча, затем побежала прочь и упала в дядюшкино кресло, горько зарыдав.
Теперь Дени был смущен сверх всякой меры и не знал, что предпринять. Он осмотрелся, как будто ища вдохновения, и, увидев скамеечку, присел на нее, чтобы хоть что-то делать. Поигрывая рапирой, он жалел, что тысячу раз до этого не был убит и закопан в какой-нибудь братской могиле во Франции.
Его глаза блуждали по зале, не находя себе пищи. Между предметами мебели были такие большие промежутки, что зала казалась пустой; свет был тусклый и какой-то безнадежный; уличная тьма смотрела в окна так холодно, что ему пришло на ум, что он находится в просторной церкви или печальном склепе. Всхлипы девушки раздавались с регулярностью часового механизма, а он все перечитывал девиз рода на щите, пока не перестал различать слова. Дени смотрел в темные углы, пока ему не показалось, что они кишат страшными чудовищами. То и дело, как бы очнувшись, он вспоминал, что истекают последние два часа его жизни и смерть неумолимо приближается.
Чаще и чаще, по мере того как время шло, взгляд молодого человека останавливался на самой девушке. Она склонила лицо в ладони, плечи ее содрогались от конвульсивных рыданий. Несмотря на это, она не была неприятна для глаз, с миниатюрной пухленькой фигуркой, такая свеженькая, с теплым смуглым цветом кожи, с такими красивыми волосами — таких он у женщин никогда не встречал… Кисти ее рук были похожи на дядюшкины; но на этом юном теле они выглядели более уместно и казались мягкими и нежными. Он вспомнил, как сияли ему ее синие глаза, полные гнева, жалости, невинности…
Чем больше он думал о совершенствах девушки, тем более нелепой и отвратительной казалась ему мысль о смерти и тем глубже его трогали ее слезы. теперь он чувствовал, что ни у кого не хватит мужества уйти из мира, где живет такое прелестное существо; и вот теперь у него остается только сорок минут…
Внезапно из темной долины под окнами замка раздался грубый пронзительный крик петуха. Этот звук, словно яркая вспышка, вывел обоих из оцепенения.
— Неужели я не смогу ничем помочь Вам? — спросила девушка, подняв глаза на Дени.
— Мадам, — с готовностью откликнулся он, — если я сказал что-то обидное для Вас, то это только для Вашей пользы, а вовсе не ради меня.
Она обратила к нему благодарный взгляд, глаза были полны слез.
— Я хорошо понимаю Ваше положение, — продолжал Дени. — мир был жесток к Вам. Ваш дядюшка — это позор для человечества. Поверьте мне, мадам, во всей Европе не найдется молодого человека, который не был бы рад на моем месте отдать жизнь ради служения Вам.
— Я знаю, что Вы храбры и щедры, — ответила она. — Но я хочу знать, чем могу послужить Вам я — сейчас или потом.
— Это очень просто, — ответил он с улыбкой. — позвольте мне сесть рядом с Вами, как другу, а не как несчастному идиоту, попавшему сюда на свою беду; постарайтесь забыть о том, как безжалостно распорядилась нами судьба; пусть мои последние минуты пройдут в приятной дружеской беседе: этим Вы окажете мне лучшую услугу.
— Вы очень доблестный человек, — произнесла она с глубокой грустью, — очень отважный… и мне так больно от этого. Конечно, подойдите, садитесь поближе; если у Вас есть что сказать мне, Вы найдете по крайней мере очень дружелюбного слушателя. Ах, месье де Больё, да могу ли я посмотреть Вам в лицо? — и она заплакала еще горше.
— Мадам, — сказал Дени, беря ее руку в свои. — Подумайте о том, как мало времени у меня остается и как горько мне наблюдать Вашу печаль и горе. Пощадите меня в мои последние минуты, избавьте от необходимости видеть то, чего я не могу исправить даже ценою собственной жизни.
— Я очень эгоистична, это правда, — ответила Бланш. — Я постараюсь быть храбрее, месье де Больё, ради Вас. Но подумайте — могу ли я сделать что-то доброе, полезное для Вас в будущем — нет ли у Вас друзей, которым я могла бы передать ваш прощальный привет? Возложите на меня свои поручения, насколько это возможно, любая ноша облегчит хоть немного мой неоценимый долг перед Вами. Дайте мне возможность сделать для Вас что-нибудь более ценное, чем просто оплакивать Вас.
— Моя мать сейчас во втором браке, у нее молодая семья, о которой надо заботиться. Мой младший брат наследует за мной, и это, я думаю, примирит его с моей смертью. Жизнь — всего лишь пар, который приходит и уходит, как говорят нам святые книги. Когда человек на правильном пути и видит всю жизнь перед собой, он кажется самому себе очень важной фигурой в этом мире. Его лошадь — и та ржет для него, трубы трубят, прославляя его, девушки смотрят из окон, как он въезжает в город впереди своей армии; он получает множество заверений в преданности, уважении и доверии — иногда в письменном виде, иногда изустно — от людей, имеющих большой вес в обществе. Неудивительно, что порой его голова идет кругом от всего этого.
Но вот он умирает, и — будь он храбр, как сам Геракл, и мудр, как Соломон, — он очень скоро бывает забыт. Не прошло и десяти лет, как мой отец пал в яростном сражении вместе с другими князьями, но я не думаю, что кого-нибудь из них (да и саму эту битву) помнят сейчас. Нет, нет, мадам, чем ближе мы подходим к концу, тем яснее видим, что смерть — это темный и пыльный угол: человек попадает в свой склеп, и дверь за ним закрывается до Судного дня. У меня на сегодня не так уж много друзей, а когда я умру, не останется ни одного.
— Ах, месье де Больё! — воскликнула она. — Вы забыли Бланш де Малетруа.
— У Вас нежное сердце, мадам, и вы, право же, переоцениваете мою маленькую услугу.
— Это не так, — отвечала девушка. — Вы ошибаетесь, думая, что я настолько занята собой. Вы один из благороднейших людей, каких я встречала, я чувствую в Вас дух, который мог бы сделать знаменитым даже самого обыкновенного человека.
— И тем не менее сейчас я здесь гибну в мышеловке — и без всякого шума, кроме моих собственных слов, — ответил он.
Болезненная гримаса прошла по лицу Бланш, и она замолчала на несколько секунд. Затем ее глаза засверкали, и с улыбкой она продолжала:
— Я не могу позволить своему победителю так плохо думать о себе. Любого, кто отдает свою жизнь за другого, встречают в Раю герольды и ангелы самого Господа. И у Вас нет никакой причины вешать голову. Потому что… скажите честно, вы считаете меня красивой?
— О да, мадам.
— Я рада, — сердечно отвечала она. — Думаете ли Вы, что во Франции много мужчин, которых красивая девушка сама просила бы жениться на ней — и которые бы отказались, отвернулись от нее? Я знаю, вы, мужчины, склонны презирать такого рода триумфы, но — поверьте мне — мы, женщины, больше знаем о том, что драгоценно в любви. Для нас нет ничего дороже, чем сделать человека выше в его собственных глазах.
— Вы очень добрая девушка, — ответил он, — однако я не могу забыть, что просили Вы меня из жалости, а не из любви.
— Я не уверена в этом, — она опустила глаза. — Выслушайте меня до конца, месье де Больё. Я понимаю, что Вы можете презирать меня и будете совершенно правы. Я слишком жалкое существо и не стою даже Вашей мысли, хотя — Боже мой! — вы должны умереть за меня сегодня утром. Но когда я просила Вас жениться на мне, это было только и только оттого, что я на самом деле уважаю Вас, я восхищаюсь Вами, и я люблю Вас всей душой с тех самых пор, как Вы встали на мою защиту перед дядюшкой. Если бы Вы могли видеть со стороны, как благородно Вы выглядели, Вы пожалели бы меня, а не презирали.
— А сейчас, — продолжала она, торопливо удерживая его рукой, — хоть я и забыла об осторожности и столько всего Вам наговорила, вспомните, что я знаю о Ваших чувствах ко мне. Я бы никогда не решилась, поверьте, — ведь я сама из благородного семейства, — утомлять Вас, назойливо выпрашивая согласие… Наконец, у меня есть собственная гордость, и я заявляю перед лицом Пресвятой Девы, что если Вы отступите сейчас от данного слова, я не выйду за Вас, как никогда не выйду за кучера моего дядюшки.
Дени улыбнулся и вздохнул с горечью.
— Та любовь невелика, — сказал он, — которая прячется за маленькую гордость. Подойдемте к окну. Смотрите, рассветает.
Действительно, край неба полнился ясным, пока еще лишенным красок утренним светом, и долина под городом была полна серых теней. Несколько тонких дымков прихотливо вились в просветах леса и плыли над извилистым руслом реки. Все производило какое-то странное впечатление покоя, время от времени прерываемого возобновившимися криками петухов из предместий. Птицы посылали свой радостный привет наступающему дню. Легкий ветерок заклубился в верхушках деревьев под окнами замка; а свет дневного светила все наплывал и наплывал с востока, обещая вскоре стать раскаленным и выкатить на обозрение огромное красное пушечное ядро восходящего солнца.
Дени смотрел на рассвет с трепетом. Он почти бессознательно взял руку девушки и сжал ее в своей.
— Неужели наступает день? — спросила она. — Какая долгая была ночь! Увы! что мы скажем моему дядюшке, когда он вернется?
— Это зависит от Вас, — сказал Дени, сжимая ее пальцы в своих. Она молчала.
— Бланш, — прошептал Дени в быстром, неуверенном страстном порыве, — Вы видели, что я не боюсь смерти. Вы должны знать, что я скорее выброшусь из этого окна, чем решусь прикоснуться к Вам без Вашего полного и свободного согласия. Но если я Вам хоть немного небезразличен, не дайте мне потерять свою жизнь из-за недоразумения; ибо я люблю Вас больше, чем весь мир; я собирался умереть за Вас, но лучше всякого рая для меня будет посвятить остаток своей жизни служению Вам.
Не успел он закончить, как во внутренних покоях зазвенел колокольчик, и бряцанье оружия в коридоре засвидетельствовало, что воины вернулись на свой пост. Два часа истекли.
— И это после всего того, что Вы услышали от меня? — прошептала она, устремляясь глазами и губами навстречу ему.
— Я ничего не слышал, — был ответ.
— Капитана звали Флоримон де Шадивер, — сказала она ему на ухо.
— Я не слышал этого, — отвечал Дени, обнимая девушку и покрывая поцелуями мокрое от слез лицо.
Позади раздалось мелодичное чириканье, а затем негромкий смешок, и голос Мессира де Малетруа пожелал новообретенному племяннику доброго утра.
* * *
Уильям Генри Хадсон
Рассказ о пегом коне
Я расскажу тебе, мой друг, про пегого коня. Есть люди, которые, как птицы, слетаются стаями, прыгают, болтая и чирикая, клюют свое зерно, а потом улетают, начисто забыв, что проглотили. Я не люблю рассыпать зерно перед такими. С тобой, мой друг, все это иначе. Другие могут посмеяться над стариком рассказчиком, который складывает множество историй в котел своей памяти. Я тоже могу посмеяться, зная, что все предопределено судьбой; иначе осталось бы только сесть да заплакать.
Подумать только, что я видел! Жил-был конь, его давно уже нет; я могу показать тебе, где лежали его кости, белея на солнце. На этом месте теперь растет крапива. Сколько есть важных вещей, о которых можно говорить и помнить! Кости мертвого коня — и куст крапивы; птенец, выпавший из гнезда ночью и умирающий к утру; грибы-дождевики, дым от которых несется по ветру; маленький ягненок, отставший от стада и блеющий ночью среди чертополоха и колючих кустов, где только лисица или дикая собака могут услыхать его!
Скажешь, все это незначительные предметы? ну, а сами наши жизни — что? А все те люди, которых мы знали — мужчины и женщины, которые говорили с нами, касались нас своими теплыми руками — где их яркие глаза, где их губы? Можно ли относиться ко всему этому, как к опавшей с деревьев листве? Можно ли ложиться спать отягощенным мыслями о них, а утром вставать без этих мыслей? Ах, друг мой!..
Но вот — про коня. У моего соседа Сотело на животноводческой ферме как-то было клеймение скота: из трехтысячного стада нам надо было отобрать годовалых телят, чтобы пометить. После этого предусматривались обед и танцы. На рассвете мы собрались на эту работу, около тридцати человек, все — друзья и соседи. Только один был незнакомец; никто его не знал. Он присоединился к нам, когда мы ехали к стаду, — молодой человек, худощавый, ладный, приятной наружности и одетый так, как мало кто одевался в то время. Его конь тоже красовался серебряной сбруей. И что это было за животное! Я повидал на своем веку немало лошадей, и ни одна не держалась с таким достоинством, как пегий этого незнакомца.
Подъехав к стаду, мы начали отделять годовичков, при этом по двое на лошадях выбирали в стаде теленка и потом выгоняли его, конвоируя с двух сторон, чтоб он не убежал обратно. Я в тот день имел несчастье ездить на сущем демоне с огненным ртом, которого невозможно было заставить работать, и поэтому мне пришлось оставить компанию разделяющих и выполнять более легкую задачу охраны уже отобранных годовичков, чтобы не убежали обратно в стадо.
Тут ко мне подъехал сосед Чапако. Это был малый с добрым сердцем и хорошей репутацией, наполовину индеец, наполовину христианин. Но в его душе была еще одна часть, и она-то была от дьявола.
— Что я вижу! Сосед Люцеро, под тобой что — осел или козел, что ты здесь стоишь и делаешь детскую работу?
Я начал было рассказывать ему про свою лошадь, но он не слушал, а все поглядывал на отделяющих.
— Кто этот незнакомый молодчик? — спросил он меня.
Я ответил, что впервые вижу этого человека.
— А где и кто учил его разделять скот, хотел бы я знать?
— Он ездит на лошади так, — ответил я, — как будто полагается на ум животного. И он в безопасности; более опасная работа у его напарника.
— Да, пожалуй, — отвечал Чапако. — Он что-то очень уж ретиво погоняет теленка впереди своего товарища, который охраняет его от возврата в стадо, и тот находится в большей опасности, потому что его лошадь может в любой момент наткнуться на теленка и упасть. Нет, Люцеро, похоже, этот молодчик хорошо знает, что ему не решатся перечить. Он больше полагается на свой длинный нож, чем на умную лошадь.
Пока мы разговаривали, пара, за которой мы наблюдали, подъехала к нам. Чапако приветствовал молодого незнакомца, снимая шляпу, и сказал:
— Не возьмешь ли ты меня в напарники, друг?
— Да, почему бы и нет, друг? — был ответ, и вдвоем они ускакали.
Я сказал себе, что не спущу с них глаз, чтобы увидеть, что намерен делать этот индейский дьявол. Вскоре они показались из стада, ведя маленького теленка. Я уже понял, что будет. «Да будет твой ангел-хранитель с тобой, чтобы спасти от беды, молодой незнакомец!» — воскликнул я. Хлеща и пришпоривая коней, приближались они, словно соревнуясь в скорости, а не разделяя скот. Чапако подъехал близко к теленку, чтобы иметь преимущество, да и его лошадь была более обученной. Зайдя чуть вперед, он быстро, как молния, развернул теленка наперерез напарнику. Лошадь толкнула теленка в бок и упала через него. Но, силы небесные! Почему не спасся всадник? Все видели, как он взбросил вверх ноги, чтобы перешагнуть шею лошади и успеть соскочить с нее, однако человек, лошадь и теленок упали вместе, пропахали землю на порядочное расстояние (так как скорость была изрядной), и человек был в самом низу. Когда его подняли, он был без сознания, изо рта текла кровь. На следующее утро, когда взошло солнце и свет Божий упал на землю, он испустил дух.
Конечно, в тот вечер никто не танцевал. Некоторые после обеда уехали; другие оставались до утра, разговаривая вполголоса и ожидая конца. Несколько человек сидели возле несчастного, глядя на его белое лицо и закрытые глаза. Он дышал с трудом. Когда рассвело, он открыл глаза, и Сотело спросил, как он. Губы незнакомца почти беззвучно зашевелились. Сосед внимательно слушал, наклонившись к самому его рту.
— Но где она живет? — спросил он. Ответа не было: человек был мертв.
— Он пытался рассказать мне многое, — сказал нам Сотело, — но я понял только: «передайте ей, пусть она простит меня… я был неправ. Она с самого начала любила его… Я ревновал и ненавидел его… Скажите Эларии, пусть не печалится: Анаклето будет лучше для нее». Увы, мои друзья, где же нам найти его близких, чтоб донести до них его предсмертные слова?
Судья переписал имущество незнакомца и велел Сотело хранить его, пока не обнаружатся хоть какие-нибудь близкие умершего. Затем, созвав нас всех, он велел каждому вырезать на рукоятке своего кнута и на ножнах кинжала клеймо, которое было на крупе лошади незнакомца: конская подкова с крестом внутри, и показывать этот знак всем приезжим, чтобы таким образом сделать его известным по всей стране и в конце концов найти хоть кого-то из родных умершего.
Когда прошел год и никто не объявился, судья сказал Сотело, что теперь тот может забрать себе и лошадь, и серебряные уздечки. Но не таков был Сотело: он был набожен и благочестив и никогда не брал чужого имущества, будь его хозяин жив или мертв.
Однажды вечером три года спустя мы сидели у него и пили мате, когда мимо проскакало его стадо мышастых кобылиц. С громким ржанием они галопом вбежали в корраль, а впереди, как мустанг, несся этот пегий, на котором никто не ездил с тех самых пор, как погиб хозяин.
— Когда я вижу эту лошадь, — заметил я, — всегда вспоминаю то роковое событие — как ее хозяин нашел здесь свою смерть.
— Раз уж ты заговорил об этом, старина, я расскажу тебе, что я придумал. Этот благородный пегий и серебряные уздечки, висящие у меня в комнате, все время взывают к моей совести. Давайте не забывать того молодого незнакомца, которого мы схоронили. Я отслужил немало месс за упокой его души, но самому мне нет покоя. Ведь, наверно, где-то далеко есть место, где помнят его; есть руки, которые, может быть, собирают дикие цветы, чтобы поставить их вместе со свечой перед образом Блаженной Девы; есть глаза, которые в слезах смотрят на дорогу в ожидании его приезда… Ты знаешь, как много путешественников и скотоводов по пути с юга в Буэнос-Айрес заходят в нашу пульперию выпить и закусить. Так вот, я намерен каждый день привязывать коня к ее калитке. Ни один проезжий не сможет пропустить это животное, и когда-нибудь один из путников узнает клеймо на его крупе и сможет сказать нам, из какого района и с какой фермы этот конь.
На следующее утро пегий был привязан у ворот пульперии со стороны дороги с тем, чтобы быть отвязанным на ночь; так продолжалось довольно долго. Конечно, красивое животное привлекало внимание всех странников, проезжавших по дороге, однако прошло несколько недель, а ничего не происходило. Наконец однажды вечером — солнце уже садилось — показалось стадо скота, которое гнали восемь гуртовщиков. Они прошли очень большое расстояние с огромным стадом — около 900 голов, — и двигались еле-еле. Несколько человек зашли отдохнуть и подкрепиться, а один остался снаружи, опершись на калитку.
— Что там делает наш капатас? — спросил один из погонщиков.
— Похоже, он влюбился в ту пегую лошадь, — сказал другой. — Он прямо глаз с нее не сводит.
Вскоре сам капатас, молодой человек приятной наружности, вошел и сел на лавочку. Другие оживленно разговаривали и смеялись, обсуждая необычайные вещи, которые они видели и делали вчера; ибо они были в дороге уже давно, только иногда позволяя себе недолго подремать в седлах, и в конце концов от отсутствия полноценного сна многие просто начинали бредить; поэтому их поведение напоминало действия полубезумных людей.
— Ну, ладно, ребята, хватит о ваших вчерашних глюках, — сказал их начальник, молча слушавший их рассказы. — Лучше скажите мне: что, и сегодня так же?
— Ну, нет! — отвечали они. — Сегодня, спасибо нашим рогатым, которые устали и сбили себе копыта, мы смогли хоть немного поспать.
— Вот и хорошо, — сказал он. — Теперь, когда вы закончили есть и пить, поезжайте к стаду, но прежде хорошенько посмотрите на пегого, который привязан у калитки. Если бы я не был скотопромышленник, то был бы уверен, что глаза не обманывают меня. Но я-то знаю: когда, чтоб не заснуть, приходится придерживать веки пальцами, в полубреду можно увидеть много странного.
Как следует рассмотрев пегого коня, погонщики хором воскликнули:
— У него клеймо скотоводческой фермы де Сильва! Это твоя лошадь, капатас! — И уехали обратно к стаду.
— Друг мой, — спросил капатас у держателя лавочки, — не расскажете ли вы мне, как у вас оказалась эта пегая лошадь?
Ему рассказали всю историю и передали даже те слова, которые, умирая, произнес хозяин коня.
Капатас склонил голову и заплакал, закрыв лицо руками. Немного успокоившись, он сказал:
— И ты так погиб, Торквато, среди чужих людей! А я от всего сердца простил тебе все. Упокой Господь твою душу, Торквато; я не забыл, что мы когда-то были братьями. Я, друзья мои, тот самый Анаклето, о котором он говорил при последнем дыхании.
Послали за Сотело, и когда тот приехал и пульперия была закрыта на ночь, капатас рассказал нам свою историю, которую я передаю дословно — так, как слышал ее собственными ушами.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.