
Бесплатный фрагмент - Рильке и Толстой: Диалоги о Боге
Книга 2
…человек должен понимать и помнить, что бог открывается только непосредственно сердцу человека…
Лев Толстой
Вы должны знать, что Бог веет через вас с самого начала, и если ваше сердце светится, <…> значит, Он творит в нем.
Райнер Мария Рильке

*
Лев Толстой (1828—1910) и Райнер Мария Рильке (1875—1926) — два выдающихся духовидца и творца, которые в поисках смысла жизни и бессмертия шли разными, но самоотверженными путями. Оказавшись «лицом к лицу» в 1900 году в Ясной Поляне, они, столь разные по темпераменту и убеждениям, так и не смогли достичь взаимопонимания. И это не удивительно, ведь чтобы великие души по настоящему узнали друг в друга и заговорили на одном языке, им нужен простор вечности.
Остаётся только догадываться о содержании их яснополянских бесед, но по прошествии ста лет та недосказанность, которая возникла в разговоре между ними, становится всё более животрепещущей и красноречивой.
Чтобы восполнить зияющий пробел от той встречи, данная публикация представляет собой попытку воссоздать возможный разговор Толстого и Рильке, и единственным подспорьем для этого будут цитаты из их произведений и писем.
Продолжая диалоги, начатые в книге «Рильке и Толстой: художник и бог», центральной темой которых является искусство, данный сборник охватывает более широкий круг тем, главной из которых является вера и Бог.
*
Вводные замечания
Настоящая публикация не преследует раскрытие темы Бога в творчестве Рильке или Толстого. Мне, как почитателю гениев этих двух самобытных художников, в первую очередь важен их духовный опыт, который проявляется ещё ярче и полнее, когда позволяешь столь непохожим творцам вести умозрительный диалог.
Именно опыт, а не слова, роднит эти две великие души. Ибо обитель у них одна — озарённый разум и сердце.
А потому каждый диалог я старался представить предельно прозрачным по смыслу, хотя, признаться, это мне не всегда удавалось, ведь даже по частным вопросам взгляды и Рильке, и Толстого невозможно передать в двух словах, не говоря уже о целостном мировоззрении каждого.
И всё же для лучшего понимания наиболее «тёмных» мест, особенно в заключительных диалогах, в книгу включён дополнительный раздел, содержащий два небольших материала: скандально известный «символ веры» Льва Толстого, который он в предельно ясной форме изложил в своём ответе Синоду в 1901 году, и краткое введение в «метафизику» позднего Рильке периода его «Дуинских элегий».
*
От составителя и переводчика
Все диалоги в книге — плод моего воображения, поскольку о реальной беседе в Ясной Поляне нам ничего не известно кроме того, что речь шла «о пейзаже вокруг, о России, о смерти…»
Рассуждения Рильке в диалогах представляют собой выдержки из его дневников и писем. Указанные произведения являются общественным достоянием. Все цитаты даны в моём переводе c немецкого языка.
Рассуждения Толстого взяты из следующих его произведений: «Христианское учение», «В чём моя вера», «Краткое изложение Евангелия», «Соединение и перевод четырех Евангелий». Все цитаты приведены с сохранением стилистических и грамматических особенностей оригинала.
Важно отметить, что в исходные тексты я добавил выборочную разбивку: некоторые ключевые слова или фразы выделены мной в
отдельные строки,
акцентируя на них внимание читателя.
Иллюстрации в книге — вымышленные, созданы мной на основе общедоступных фотографий начала XX века.
Владислав Цылёв
Диалоги
«Бог» и «боги»
Рассуждения Р-М. Рильке (из письма Лотте Хепнер, 8 ноября 1915 г.) с комментариями Л. Толстого
Рильке:
Не смущает ли Вас, что я говорю «Бог» и «боги» и, для полноты картины, преследую Вас этими догматическими терминами (как призраками), думая, что они будут иметь какое-то значение для Вас? [1]
Толстой:
Всегда с самых древних времен, люди чувствовали бедственность, непрочность и бессмысленность своего существования и искали спасения от этой бедственности, непрочности и бессмысленности в вере в бога или богов, которые могли бы избавлять их от различных бед этой жизни и в будущей жизни давали бы им то благо, которого они желали и не могли получить в этой жизни.
Рильке:
…допустим на мгновение, что существует некое метафизическое царство. Давайте согласимся, что с самого начала своего существования человек создал богов, в которых заключались все омертвелые и угрожающие, смертоносные и ужасающие элементы жизни — ее насилие, ярость, сверхчеловеческое помрачение, и что все они были связаны в один тугой узел жестокости — нечто чуждое нам, если угодно, и все же позволяющее нам признать, что мы осознавали его, терпели его и даже принимали его ради несомненной, тайной связи и причастности к нему. Ибо мы тоже были такими; только мы не знали, что делать с этой стороной нашего опыта… [1]
Толстой:
И потому с древнейших времен среди разных народов были и разные проповедники, которые учили людей о том, каковы тот бог или те боги, которые могут спасать людей, и о том, что нужно было делать для того, чтобы угодить этому богу или богам, для того, чтобы получить награду в этой или будущей жизни.
Рильке:
…боги были слишком велики, слишком опасны, слишком многолики, они разрастались за пределы нас самих, приобретая непомерную значимость; с учетом многочисленных требований нашей жизни, приспособленной к нашим привычкам и достижениям, мы сочли невозможным иметь дело с этими неуправляемыми и непостижимыми силами; и поэтому мы согласились поместить их вне нас. [1]
Толстой:
Одни религиозные учения учили тому, что бог этот есть солнце и олицетворяется в разных животных; другие учили, что боги — это небо и земля; третьи учили тому, что бог создал мир и избрал из всех народов один любимый народ; четвертые учили, что есть много богов и что они участвуют в делах людей; пятые учили тому, что бог, приняв образ человека, сошел на землю.
Рильке:
Но поскольку они [боги] были переполнением нашего собственного существа, его самым мощным элементом, до чрезвычайности мощным, огромным, жестоким, непостижимым, часто чудовищным — как же они могли, сосредоточенные в одном месте, не оказывать на нас своё влияние, не демонстрировать своё могущество и не господствовать над нами? И, заметьте, отныне извне. [1]
Толстой:
И все эти учителя, перемешивая истину с ложью, требовали от людей, кроме воздержания от поступков, считавшихся дурными, и исполнения дел, считавшихся добрыми, еще и таинства, и жертвы, и молитвы, которые больше всего другого должны были обеспечивать людям их благо в этом мире и в будущем.
<…> Но чем больше жили люди, тем меньше и меньше удовлетворяли эти вероучения требованиям души человеческой.
Рильке:
Нельзя ли отнестись к истории Бога как к почти никогда не исследованной области человеческой души, которую всегда откладывали, берегли и которой в итоге всегда пренебрегали? [1]
Не вера, а направленность сердца
•
Рассуждения Р. М. Рильке (из письма Ильзе Блументаль-Вайс, 28 декабря 1921 г.) с комментариями Л. Толстого
Рильке:
Вера! Такого понятия просто не существует, — чуть было не сказал я. Есть только любовь. Понуждение сердца принять то или иное за истину, которое мы обычно называем верой, не имеет никакого смысла.
Толстой:
…разум людей, воспитанный в человеческом обществе, никогда не бывает свободен от извращения. Всякий человек, воспитанный в человеческом обществе, неизбежно подвергается извращению, состоящему в обмане веры.
<…> По моим понятиям, вера есть то, что верна та основа, на которой зиждется всякое действие разума. Вера есть знание откровения, без чего невозможно жить и мыслить. Откровение есть знание того, до чего не может дойти разумом человек, но что выносится всем человечеством из скрывающегося в бесконечности начала всего. Таково, по мне, должно быть свойство откровения, производящего веру; и такого я ищу в предании о Христе и потому обращаюсь к нему с самыми строгими разумными требованиями.
Рильке:
Прежде всего, нужно найти Бога где-то, ощутить его как бесконечно, потрясающе, безоговорочно присутствующего; тогда, что бы человек ни почувствовал по отношению к нему — страх, изумление, замирание дыхания и, в конце концов, любовь, — это всё едва ли будет иметь значение.
Толстой:
…смысл жизни каждого отдельного человека <…> только в увеличении в себе любви, <…> это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу, дает после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире Царства Божия…
Рильке:
Но для веры, этого навязчивого стремления к Богу, нет места там, где человек начал с открытия Бога, и где он уже не может остановиться, с какой бы ступени он ни начал…
Толстой:
И потому обман веры есть основа всех грехов и бедствий человека. Обманы веры суть то, что в Евангелии названо хулой на святого духа и про которую сказано, что это действие не может проститься, т. е. что никогда, ни в какой жизни не может не быть губительно.
•
Рассуждения Р. М. Рильке (из письма Ильзе Блументаль-Вайс, 28 декабря 1921 г.) с комментариями Л. Толстого
Рильке:
И Вам-то, по рождению еврейке, с таким богатым и непосредственным переживанием Бога, с таким древним страхом перед Богом в вашей крови, не пристало беспокоиться о «вере». Просто почувствуйте Его присутствие в себе…
Толстой:
Смысл царства Божия в мире Иисус выразил словами пророка Исаии. Царство Божие есть счастье для несчастных, спасение для страдающих, свет для слепых, свобода для несвободных. Ученикам своим Иисус сказал, что царство небесное в том, что отныне Бог уже не будет тем Богом неприступным, каким он был прежде, а что отныне Бог будет в мире и в общении с людьми.
Рильке
…и если Он, Иегова, хотел, чтобы его страшились, то это происходило только потому, что во многих случаях между человеком и Богом не было другого способа соприкосновения, кроме страха. Ведь страх перед Богом — это лишь, своего рода, оболочка того состояния, внутреннее содержание которого не имеет привкуса страха, но может созреть до самой невыразимой безымянности и сладости для того, кто теряет себя в нем.
Толстой:
Если Бог в мире и в общении с людьми, то — какой это Бог? Тот ли это Бог творец, сидящий на небесах, являвшийся патриархам и давший свой закон Моисею, Бог мстительный жестокий и страшный, которого знали и почитали люди, или это другой Бог?
Рильке [Ильзе Блументаль-Вайс]:
Не забывайте, в вашем роду один из величайших богов мироздания, Бог, приверженцем которого нельзя стать когда пожелаешь, как приверженцем христианского Бога, но Бог, к которому человек принадлежит через свой народ, потому что с незапамятных времен Он сотворён и сформирован в его праотцах, так что каждый еврей был утвержден в Нем (и в том, кого никто не смеет назвать), навечно посажен в Него корнем своего языка!
Толстой:
Иисус, говоря о законе, никогда не разумел закона Моисеева, а закон общий и вечный, нравственный закон людей. Иисус не учит тому, как исполнять положение Моисеевых книг о клятве, а учит тому, как выполнять закон вечный, запрещающий всякую клятву.
<…> Христос отрицает всё, решительно всё вероучение еврейское.
Рильке:
Я испытываю неописуемое доверие к тем народам, которые пришли к Богу не через веру, а обрели Бога благодаря своему родовому укладу — в своих корнях. Например, евреи, арабы, в какой-то степени православные русские — и, в иной форме, народы Востока и древней Мексики.
Толстой:
…прием обмана веры состоит в том, <…> что существует другое, более надежное [чем разум] орудие познания: откровение истины, передаваемое богом непосредственно избранным людям при известных знамениях, чудесах, т. е. сверхъестественных событиях, подтверждающих верность передачи.
Иисус сказал:
Бросьте храм этот, я в три дня возбужу новый, живой храм Богу.
И иудеи сказали:
Как же ты сделаешь сейчас новый храм, когда этот строился сорок шесть лет?“. И Иисус сказал: „Я говорю вам про то, что важнее храма.
Рильке:
Для них [этих народов]
Бог — это [их] происхождение, а значит, и [их] будущее.
Толстой:
Вы бы не говорили этого, если бы понимали, что значат слова пророка:
Я, Бог, не радуюсь вашим жертвам, но радуюсь вашей любви между собой. Живой храм — это
весь мир людей Божиих,
когда они любят друг друга.
•
Рассуждения Р. М. Рильке (из письма Ильзе Блументаль-Вайс, 28 декабря 1921 г.) с комментариями Льва Толстого
Рильке:
[И всё же] Для других он — нечто отвлеченное, нечто, от чего эти другие бегут или к чему устремляются как совсем неродные или как люди, которые стали отверженными, и поэтому им всегда нужен заступник, посредник, тот, кто переведет их кровь, лепет их крови на язык Божества. То, чего добиваются эти народы, и есть та самая «вера»; они должны убеждать и приучать себя принимать за истину то, что является подлинным бытием для народов, нисшедших от Бога, и по этой причине все религии уверовавших так легко скатываются
в крайности этики,
Толстой:
…я прошу <…> помнить что то, что отталкивает <…>, и то, что представляется <…> суеверием, не есть учение Христа; что Христос не может быть повинным в том безобразном предании, которое приплели к его учению и выдавали за христианство…
Рильке:
Религия — это нечто бесконечно простое, бесхитростное. Это не знание, не содержание чувства (ибо всё это заложено с самого начала, когда человек только вступает в отношения с жизнью), это не долг и не самоотвержение, это и не запреты: но в в бескрайнем пространстве вселенной это направленность сердца.
Толстой:
[С недавних пор] я смотрю на христианство не как на исключительное божественное откровение, не как на историческое явление, — я смотрю на христианство, как на учение, дающее смысл жизни. <…>
Рильке:
Какой бы путь ни избрал человек, он может сбиваться с него то вправо, то влево, спотыкаться и падать, и вновь подыматься; он может поступать дурно с одними и страдать от несправедливости других; здесь с ним жестоко обошлись, а там он сам затаил в себе злобу, стал жестоким и несправедливым — всё это переходит в великие религии, сохраняя и обогащая Бога, который является их центром.
Толстой:
Я находился в положении человека, который бы получил мешок вонючей грязи и только после долгой борьбы и труда нашел бы, что в этом мешке, заваленные грязью, действительно лежат бесценные жемчужины; понял бы, что он не виноват в своем отвращении к вонючей грязи и не только виноваты, но достойны любви и уважения те люди, которые собрали и хранили этот жемчуг вместе с грязью.
Рильке:
И даже человек, живущий на самой периферии этого круга, причастен этому могущественному центру, несмотря на то, что он лишь однажды, возможно, в момент смерти, повернулся к нему лицом.
Толстой:
Я не знал света, думал, что нет света истины в жизни; но, убедившись в том, что люди живы только этим светом, я стал искать его источник и нашел его в Евангелии, несмотря на ложное толкование церквей. И, дойдя до этого источника света, я был ослеплен им и получил полные ответы на вопросы о смысле жизни…
Рильке:
…изначально познанный Бог не делает различий между добром и злом по отношению к людям, а действует ради себя самого, страстно озабоченный только тем, чтобы они были рядом с ним, держались за него и принадлежали ему, и ничем другим!
Толстой:
…пророк Исаия сказал <…>:
Дом Бога не храм в Иерусалиме, — а весь мир людей Божиих.
Хранить себя от идолов веры
Рассуждения Льва Толстого с комментариями Р. М. Рильке (выдержки из письма Александру Бенуа, 28 июля 1901 г.)
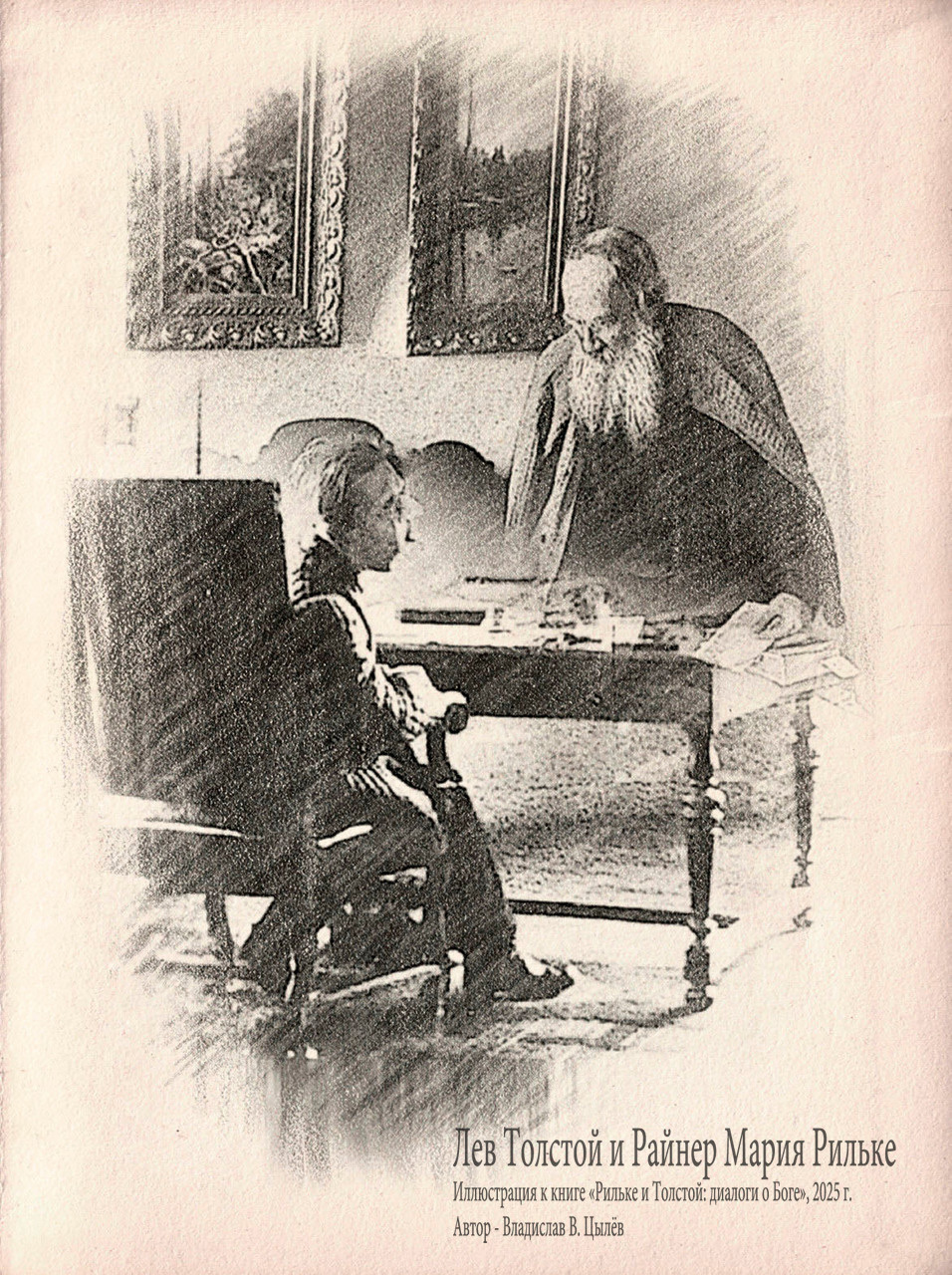
Толстой:
Сущность обмана веры состоит в том, что умышленно смешиваются и подставляются одно под другое понятия веры и доверия: утверждается, что без веры человек не может жить и мыслить, что совершенно справедливо, и на место понятия веры, т. е. признания того, что существует то, что сознается, но не может быть определено разумом, как бог, душа, добро, — подставляется понятие доверия в то, что существует бог, именно такой-то, в трех лицах, тогда-то сотворивший мир, и то-то открывший людям, именно там-то, и тогда-то и через таких-то пророков.
Рильке:
Я не обладаю какой-либо философской подготовкой или опытом, а потому на протяжении всей своей жизни с какой бы философией мне ни приходилось сталкиваться, я всегда относился к ней, как к поэзии, предъявляя к ней максимальные эстетические требования и проявляя недостаточную приверженность и добросовестность. Поэтому, мне доступна лишь одна сторона трудов большинства философов, и я признаю себя совершенно неспособным охватить целиком какую-либо систему и сопоставить ее с другой.
Толстой:
<…> Для того, чтобы освободиться от обманов веры вообще, человеку надо понимать и помнить, что единственное орудие познания, которым владеет человек, есть его разум и что поэтому всякая проповедь, утверждающая что-либо противное разуму, есть обман, попытка устранения единственного, данного богом человеку орудия познания.
Рильке:
<…> Всякий раз чувствуется какое-то проявление поспешности, преждевременности, когда философия становится религией, то есть когда она начинает навязывать другим свои догмы, хотя, в любом случае, она представляет собой только грандиозный путь её основоположника, путь, следуя которому он жил и боролся между жизнью и смертью.
Толстой:
Для того, чтобы быть свободным от обманов веры, человеку надо понимать и помнить, что у него нет и не может быть никакого другого, кроме разума, орудия познания, — что хочет он или не хочет того, всякий человек верит только разуму, и что поэтому люди, говорящие, что они верят не разуму, а Моисею, Будде, Христу, Магомету, церкви, корану, библии, — обманывают себя, потому что, чему бы они ни верили, они верят не тому, кто передает им те истины, в которые они верят — Моисею, Будде, Христу, библии, — но верят разуму, который говорит им, что им надо верить Моисею, Христу, библии и надо не верить Будде и Магомету, библии и наоборот.
Рильке:
[А потому] я неизменно пытаюсь обнаружить человека там, где полнота его опыта сохраняется ещё в неразъятом на части, целостном виде, — то есть, без ущерба, нанесённого ему теми ограничениями и уступками, которых требует от него любая систематизация.
Толстой:
Истина не может войти в человека помимо разума, и потому человек, который думает, что он познает истины верою, а не разумом, только обманывает себя и неправильно употребляет свой разум на то, на что он не предназначен, — на решение вопросов о том, кому из передающих учение, выдаваемые за истину, надо верить и кому не верить.
Разум же предназначен не на то, чтобы решать, кому нужно, а кому не нужно верить, этого он и не может решить, а на то, чтобы проверять справедливость того, что предлагается ему. Это он всегда может и на это он и предназначен.
Рильке:
Когда из философского развития отдельного человека вырастает целая система, во мне возникает почти удушающее чувство какой-то ограниченности, преднамеренности этого.
<…> Всякий раз забывают, что философы, как и поэты, являются среди нас носителями будущего и поэтому меньше других могут рассчитывать на сочувственное отношение своего времени; они — современники людей далёкого будущего, и пока они воздерживаются от вмешательства в дела ближнего, у них, по мере своего развития, нет причин устанавливать правила и подводить итоги, кроме тех систематических обобщений, которые нужны им самим для понимания своего положения, но которые они сами то и дело разрушают ради своего же внутреннего совершенствования.
Толстой:
Лжетолкователи истины говорят обыкновенно о том, что разуму нельзя верить потому, что разум разных людей утверждает разное и что поэтому для единения людей лучше верить в откровение, подтверждаемое чудесами. Но такое утверждение прямо противоположно истине. Разум никогда не утверждает различного. Он всегда во всех людях утверждает и отрицает одно и то же.
<…> Только веры, утверждая различное: одна, что бог открыл себя на Синае и что он бог евреев; а другая, что бог есть брама, вишну и шива; а третья, что бог есть троица: отец, сын и святой дух; а четвертая, что бог есть небо и земля; а пятая, что истина открыта вся Буддою; а шестая, что вся она открыта Магометом, — только веры эти разделяют людей, разум же, будет ли это разум еврея, японца, китайца, араба, англичанина, русского, всегда и у всех говорит одно и то же.
Рильке:
Стоит только философу привести в систему то, что достигнуто им, и огласить окружающим свои выводы, как тотчас в поддержку этого выступают его ученики, приверженцы и друзья, а враги восстают против, так что философ уже не имеет права расшатывать основы созданной им системы, в которой отныне обитают другие, и подвергать опасности тысячи жизней, для которых она теперь служит питательной средой.
[И вот уже сам] философ становится помехой самому себе на изначально необозримом и ничем не стесненном пути своего развития — пути, который возможен только над руинами этого порядка, и он, кто еще вчера был безраздельным владыкой неисчислимых своих достижений и царственно мог потакать каждому капризу своей воли, теперь оказывается лишь верховным лакеем системы, с каждым днем перерастающей своего основателя.
Толстой:
Когда говорят, что разум может обманывать, и в подтверждение приводят несогласные утверждения различных людей о том, что есть бог и как нужно служить ему, то те, которые говорят это, делают умышленную или неумышленную ошибку, смешивая разум с рассуждениями и вымыслами.
Рильке:
По этой причине я не хочу способствовать распространению идей какого-либо философа, ибо это каждый раз означало бы подвергнуть его опасности, великой опасности, навязать ему сонмы последователей, то есть взвалить на философа такое непосильное бремя, которое связало бы его, невесомого, со временем, которому он не принадлежит.
Толстой:
Рассуждения и вымыслы действительно могут быть и бывают бесконечно разнообразны и различны, но решения разума всегда одинаковы для всех людей и во все времена.
Рильке:
…Видели бы вы своими глазами, как обмельчал тот же Ницше в Германии, с тех пор как каждый юнец-недоучка, прислуживающий за прилавком, возомнил о себе, что он — ницшеанец!
Толстой:
Говорят ли о том, что бог ходил в огненном столбу или о том, что Будда поднялся на лучах солнца, или Магомет летал на небо, или Христос ходил поводе и т. п., разум всех людей всегда и везде отвечает одно и то же: это неправда.
Рильке:
Но именно это превозношение и опасно для великого священного имени! Разве не оскорбляли Христа тысячу раз в день те, кто называл себя его именем? Он был милосерден и верил, что может раздать обретенное им — этим людям, чтобы укрепить их путь. Но дело в том, что самые дальновидные отдают себя полностью будущему и поэтому должны быть суровы к настоящему; у них нет хлеба для алчущих, как бы сильно последние об этом не грезили… У них есть только камни, которые современникам кажутся хлебом и пищей, но в действительности это основания и краеугольные камни грядущих дней, которыми они не должны разбрасываться.
Толстой:
И потому для того, чтобы жить по учению Христа, человеку нужно прежде всего освободиться от обманов веры. Только освободившись от обманов веры, человек может освободиться от лжи соблазнов; и только познав ложь соблазнов, может человек освободиться от грехов.
Рильке:
Вообразите хотя бы на миг, как несказанно свободен тот, кого не коснулась известность, не потревожила слава; философ должен хранить в себе именно эту свободу; он может быть каждый день только новым, тем, кто опровергает самого себя.
Всего пару вопросов — по-детски…
Рассуждения Р. М. Рильке (из письма Лу Андреас-Саломе, 12 мая 1904 г.) с комментариями Льва Толстого
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
