
Бесплатный фрагмент - Российская империя в трудах историков XIX в. Том 2
Предисловие редактора к второму тому
Читатель может начать изучать материал двухтомника и с этой книги, но лучше, конечно, все делать последовательно, т. е. сначала Том 1, потом Том 2, а не наоборот. Мы (автор-составитель и работавшие над книгой его коллеги) пытались создать единую, цельную картину восприятия российской истории публицистами, историками и писателями XIX века (некоторый отступ в начало ХХ века в этом смысле лишь дополняет картину), показать их взгляды и объяснить причины таких взглядов. Жизнь меняется, меняется и наше восприятие минувших событий, но сами они не могут измениться, ведь все уже случилось.
Внимательный читатель, изучая разные точки зрения, сможет выбрать для себя нечто общее для них и заодно понять, почему нет полного совпадения. А это, в свою очередь, определит его успех в воссоздании исторических событий, их осмыслении и переносе соответствующих выводов на день сегодняшний. В этом и состоит, на наш взгляд, практическая польза изучения истории — она позволяет лучше понять современность и предсказать с большой вероятностью будущее. Не только в части конкретных событий, но и в смысле интерпретации этих событий современниками и потомками. То, что нам сегодня кажется ужасным, вульгарным и отвратительным, вполне может быть лет через 50 представлено великими свершениями и историческим прорывом. Может, если мы с вами этому позволим произойти, оставив изучение истории на долю немногочисленных узких специалистов.
Так давайте изучать историю Отечества в деталях! Детали важны все. Нельзя читать только «про войну» или, допустим, про музыку и живопись. Мозаика прошлых лет будет неполной, ущербной и фальшивой даже без одного маленького цветного стёклышка. Надеюсь, что эта книга восполнит хотя бы частично некоторые пробелы.
Во втором томе сохранена сквозная нумерация частей, поэтому начинается он с четвертой, а не первой части. Первые три читатель найдет в Томе 1. Предисловие автора одинаково для обоих томов.
Предисловие автора
В период сотрудничества с блогом «Молодость в сапогах» в 2022—2025 гг., просматривая русские журналы «Исторический вестник», «Русская старина», «Русский архив» и др., я выбирал в них некоторые интересные, на мой взгляд, статьи и очерки, аннотировал их и в сжатом виде предлагал читателям блога. Таких материалов за эти три года набралось около 200, и у меня, и у руководителя редакции блога С. В. Мишутина возникла мысль составить из них отдельную книгу.
XIX век ознаменовался в русском обществе бурным интересом к русской истории, возникновением мемуаристики, планомерным и методическим изучением архивов. Русские литературные и исторические журналы оказались в авангарде этого процесса, предоставив свои страницы для исследований историков, журналистов и просто грамотных и образованных людей. В результате вокруг журналов образовалось солидное читательское сообщество, что естественно не замедлило сказаться на общем культурном состоянии России. Этот период можно с полным правом назвать временем рассвета исторической науки нашей страны.
Помещая статьи из журналов, я счёл необходимым ознакомить читателя и с их авторами.
Над проектом книги и редакцией текстов, а также снабжением их иллюстративным материалом неутомимо трудился С. В. Мишутин, уже оказавший до этого большую помощь в публикации моих книг.
Конечно, используемый мною материал не претендует на полное отражение истории России и рассказывает лишь о некоторых её эпизодах, малознакомых широкому читателю. Надеюсь, книга будет интересна для современного читателя, интересующегося историей своей страны.
В заключение выражаю искреннюю благодарность моему редактору, корректору и автору указанных проектов, в том числе и настоящего, за его внимательное и творческое отношение к тексту моих рукописей и особенно — за подбор и размещение иллюстраций, придающих книгам особую привлекательность и атмосферу историзма.
Составитель книги Б. Григорьев
Часть четвёртая Забытые имена
Глава 1. Ольга и Анна — русские имена
«О роде супруги Игоревой великой княгини Ольги, бессмертной в нашей истории по многим отношениям, до сих пор не сказано было ещё ничего решительного», — говорит русский историк и публицист М. П. Погодин (1800—1875).
Летописец Нестор в 903 году относительно князя Игоря писал: «…И приведоша ему жену от Плескова». В кратком житии св. Ольги тоже упоминается, что «Ольга родом Плесковитяныня».
Плесков — это старорусское название Пскова, и в 903 году русского Пскова ещё не существовало, зато был болгарский город Плесков, упоминаемый при описании болгарских событий при царях Василии и Константине (976—1028). Псков (Плесков), предполагает автор, мог быть основан при Ольге в память о её родном болгарском городе во время её поездки по Новгородской земле.
В XVI веке появилось подробное житие княгини, в которой уже вполне утвердительно говорится, что св. Ольгу «…произведе Плесковская страна, иже от области Царствия Русския земли». Утверждается это голословно, без ссылок на какие-либо документы и источники, скорее всего имея своим основанием слухи, мифы и сказания. Это утверждение без всякой критики стало повторяться во всех последующих исторических документах, игнорируя непреложный факт, что до XVI века у наших предков существовало иное мнение.

Архимандрит Леонид, разбирая архив историка и академика графа А. С. Уварова (1828—1884), наткнулся на отрывок записей русского Владимирского летописца второй половины XV века, в котором не повторяется запись 903 года о том, что Олег взял своему воспитаннику и сроднику Игорю жену из Плескова, а указано, что князь Олег «Игоря же жени в Болгарях, поят за него княжну именем Олгу. И бе мудра велми». Владимирскому летописцу уже в XV веке было известно, что жена Игоря была болгарской княжной, а не псковской поселянкой.
Всё остальное находится, по мнению архимандрита, в области вымысла, фантазии и локального патриотизма жителей Пскова, которым лестно было считать свой город родиной великой Ольги. Признав болгарское происхождение Ольги, мы получаем более правильное освещение последующих на Руси событий: принятие ею христианства и роль в этом её духовного наставника и спутника в Царьграде монаха Григория.
Болгарский пресвитер-монах Григорий был близкий к царю-книголюбу Симеону, а после смерти Симеона оказался при русском дворе княгини Ольги. Он сопровождал княгиню Ольгу в её поездке в Царьград и оказал ей большую помощь как знаток византийских придворных обычаев. Император Константин Багрянородный, принимавший русскую княгиню, писал: «Великая княгиня изволила стоять в стороне до тех пор, пока прочие княжеские особы не введены были церемониймейстером, и не поклонилась, как они императрице до земли. После того, наклонив немного голову, села она на том же месте, где стояла». Упоминает он и о её духовнике Григории, присутствие которого грекам не понравилось.
Император не говорит ни слова о крещении Ольги, поэтому некоторые историки полагают, что Ольга была тайной христианкой ещё до поездки в Царьград, куда она, по мнению автора, ездила не для совершения обряда крещения, а для того, чтобы получить от Византии то, что получали от Византии болгарские цари — Цесарское венчание. Желание княгини не исполнилось — она получила от цесаря лишь титул архонтиссы, а не царицы, т. е. супруги иноплеменного князя. Из Царьграда гордая Ольга вернулась не довольной — об этом свидетельствуют её обращение к цесарским послам: «Скажите, что я пришлю ему (императору) дары и военную помощь, когда он постоит у меня в Почайне столько, сколько я стояла в Суде», т. е. в Золотом Роге.
Болгарское происхождение княгини Ольги хорошо объясняет и слова её воинственного сына Святослава, обращённые к своей дружине по поводу города Переяславца: «Не хощу жити в Киеве, а в Переяславце, ту бо среда землия моея». Выходит, что Святослав хотел завоевать Болгарию не по прихоти или из-за воинской славы, а желал владеть своими исконными болгарскими землями, на которые уже зарились греки.
Заметим, пишет автор, что Малуша, ключница Ольги, от которой Святослав имел сына Владимира, была, судя по всему, болгаркой. Тут архимандрит Леонид пускает «шпильку» в адрес сторонника норманнской теории происхождения Руси М. П. Погодина: даже, мол, Михаил Петрович не решился произвести Малушу от какого-нибудь варяжского корня — уж слишком по-славянски звучит её имя.
Имя «Ольга», заключает автор, княгиня поучила от князя Олега, а до замужества носила неизвестное нам болгарское имя.
Княгиня Е. Ф. Шаховская-Стрешнева (1840—1924) во французском журнале La Revue публикует интересный материал о дочери Ярослава Мудрого Анне, ставшей королевой Франции.

Французский король Генрих I (1008—1060) овдовел в довольно пожилом возрасте, но захотел снова жениться. Его первая жена Матильда, дочь Конрада II Саллического, умерла, не оставив потомства, и возник династический вопрос. Найти невесту в Западной Европе не позволяло родство Матильды почти со всеми тамошними дворами, и Генриху пришлось искать невесту на востоке Европы. Поиски привели в Киев, куда в 1043 году прибыло посольство во главе с епископом Мо Жоселэном и графом д'Салиньяком. Выбор послов пал на Анну (рождение между 1025—1036, смерть между 1075—1079), третью дочь киевского князя Ярослава Мудрого, рождённую в его браке с Ингегерд Шведской.
Ярослав Владимирович Мудрый (978—1054), оправдывая своё прозвище и не забывая, какую роль в истории Киевской Руси сыграла прабабушка Ольга, поставил условием, чтобы праправнучка Ольги и в браке с французским королём-католиком оставалась православной. В то время Запад никакого антагонизма по отношению к православию ещё не проявлял, поэтому Генрих I легко согласился на это условие. Послам короля пришлось прожить в Киеве около полугода, потому что, по мнению Евгении Фёдоровны, нужно было основательно подготовиться в такой далёкий путь, который Анна Ярославна должна была по тогдашнему обыкновению преодолеть верхом в условиях сурового климата. Так что свадьба в Реймсе была отпразднована только 14 мая 1044 года.

История сохранила нам несколько фактов из жизни Анны Французской.
В одиннадцатилетнем браке с королём у неё было трое сыновей: Филипп, Гуго и Роберт. Последний умер в раннем детстве. Король Генрих, чувствуя приближение смерти, в нарушение традиций короновал 6-летнего Филиппа ещё при своей жизни.
Французская чопорная жизнь при дворе явно не нравилась Анне, и после смерти мужа она удалилась из Парижа, выбрав в качестве временного жилья старинную резиденцию «Валуа Санлис». В этом красивом месте Анна сразу после смерти короля решила воздвигнуть аббатство. Грамота на основание аббатства была подписана Филиппом и Анной. В октябре 1065 года аббатство огромных размеров с высокой колокольней, украшенное изображением Анны, было построено.
Анне было 28 лет, когда она овдовела. Сын Филипп в 16 лет вернулся в Париж и стал править страной. Имя королевы-матери вероятно быстро бы забылось, как были забыты имена многих её предшественниц, если бы у неё не разыгрался роман с одним из придворных графом Раулем де Кресли. Это был богатый человек и выходец из семьи Капетингов. Не боясь ни папы, ни короля, он сделал Анне Ярославне предложение, а Анна долго не решалась дать согласие на брак с ним. Неизвестно чем кончилось бы сватовство Кресли, если бы он в одну тёмную осеннюю ночь не похитил невесту и не умчался с ней к себе в замок. Там и произошло венчание. Да, скажем мы теперь: русские женщины ещё или уже тогда пользовались у западников большим спросом.
Французский двор примирился с этим браком, папа сделал протест против него, но было уже поздно, разрушить этот брак никому не удалось. Анна Ярославна из вдовствующей королевы превратилась во французскую помещицу, уделяя внимание обустройству нового семейного гнезда и оказанию помощи окрестному населению. Счастливая жизнь с Раулем де Кресли длилась всего 8 лет — граф неожиданно умер. Говорили, что его отравил архиепископ Жерве, мстивший за то, что супруги проигнорировали интердикт папы Александра II.
А овдовевшая вторично Анна Ярославна прожила долгую жизнь. Она вернулась ко двору сына, но никаким влиянием там уже не пользовалась. Год смерти и место погребения правнучки великой княгини св. Ольги не известно. Если бы она была погребена в воздвигнутом ею монастыре, то какие-то следы об этом непременно бы сохранились. А хоронить её в другом месте во Франции вряд ли было возможно.
Историк Мезерэ полагает, что Анна вернулась на родину и там скончалась.
Глава 2. Боярыня Морозова
После реформы патриарха Никона в 1651 году в русской церкви произошёл раскол. В нашей историографии адепты реформированной церкви стали называться никонианами, а сторонники прежней, дореформенной церкви — раскольниками или староверами. Второе на наш взгляд, подходит лучше: ведь раскол, по существу, учинил реформатор Никон.
Казалось бы, пишет Василий Николаевич, зачем было поднимать сыр-бор из-за каких-то мелочей: креститься двумя перстами или тремя, ходить во время крёстного хода по солнцу или против солнца, восклицать два или три раза «аллилуйя» и т. п. Но на самом деле это были далеко не мелочи, ибо за ними скрывался важный сакральный смысл. Десятки тысяч несогласных с Никоном староверов претерпели с тех пор за эти «мелочи» и поплатились за них своими жизнями. Среди них оказалась и боярыня Феодосья Прокопьевна Морозова (1632—1675).
Отец Феодосьи Прокопьевны, Прокопий Фёдорович Соковнин, состоял в родстве с Марьей Ильиничной Милославской, первой супругой царя Алексея Михайловича. Дочь свою Соковнин «пристроил» в мужья одному из первых бояр — Глебу Ивановичу Морозову. Брат Глеба Ивановича — Борис Иванович — был воспитателем и ближайшим другом царя. 50-летний Глеб Морозов женился на Федосье Прокопьевне во второй раз и через 12 лет после женитьбы скончался. Молодая вдова осталась с сыном полной распорядительницей богатого имения и своей судьбы.
Уже при жизни супруга молодая Морозова проявила наклонность к духовному житию, а после его смерти при поддержке своего духовника протопопа Аввакума «совершенно отдалась своим задушевным идеалам». Она всей душой была предана древлему благочестию, ненавидела новшества Никона и жизнь вела монашескую: по всей строгости исполняла церковное и келейное правило и своё время посвящала исключительно богоугодным делам.
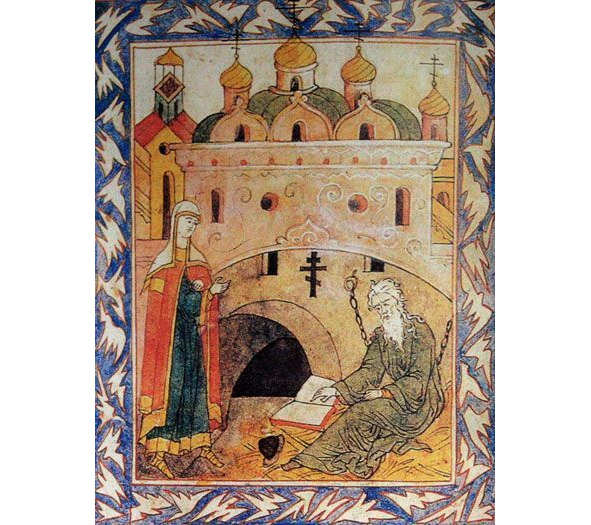
Дом её был наполнен иконами, странниками и юродивыми. Среди последних некто по имени Киприан, который был известен Алексею Михайловичу, бегал за его колымагой и кричал, призывая его на «древле благочестие вступити». Позже за свою преданность старой вере он был казнён в Пустозёрском остроге. Другой — Фёдор — был святошей, которыми была наполнена Москва и который был, по оценке историка, бесцеремонным попрошайкой, рассказывая про себя всякие небылицы и чудеса, но Аввакум относился к нему с почтением.
Морозовой было мало принадлежать к старой вере — она принялась обличать никониан. Это привело её к столкновению с другим родственником — постельничим царя Михаилом Алексеевичем Ртищевым. Ртищев был человеком не совсем типичным для своего времени: при всей склонности к старине и традициям он был открыт всему новому, приходящему из Европы: по меткому слову историка Ключевского, «они занесли одну ногу, да так и остались». Боярин Ртищев покровительствовал просвещению, ласкал учёных монахов из Киева и Польши, главных поборников Никона, но поддерживал связь и с ярым старовером протопопом Аввакумом и его сторонниками.
Как человеку мягкому и терпеливому, ему не нравились резкие обличения Морозовой, но, не имея твёрдых убеждений, он мог основываться только на авторитетах. А патриарх Никон был для него авторитетом, Никону верил сам царь, и, призывая Феодосью Прокопьевну креститься троеперстием, обвинял во всём проклятого Аввакума, с которым сам тесно общался. Вторила своему отцу и дочь Ртищева, но всё было тщетно.
У Морозовой появилась союзница — родная сестра Евдокия, бывшая замужем за царским кравчим Петром Урусовым. В отсутствие Аввакума сестёр окормляла старица Меланья, уменью которой «пасти стадо Христово» отдавал должное сам Аввакум. Меланья была женщиной осторожной, «на нож не лезла» а тихо и целенаправленно делал своё дело. Морозова стала просить Меланью помочь принять «ангельский образ», т. е. постричься в монахини. Меланья всячески отговаривала Феодосью Прокопьевну, указывая на всякого рода неудобства и препятствия: и сына надобно устроить в жизни, подобрав ему хорошую невесту; и сама она боялась, что дело дойдёт до царя, и наказания не избежать; и что постриг исключал посещение «никоновской» церкви, которому Морозова следовала из лицемерия и осторожности. Но Морозова стояла на своём, и Меланья сдалась: старовер старец Досифей постриг Морозову под именем Феодоры.
Между тем положение матери Феодоры после пострига сильно осложнилось: умерла супруга Алексея Михайловича, которая на правах родственницы оказывала Морозовой покровительство и защиту. Царь решил жениться во второй раз, и Морозова должна была присутствовать на свадьбе, говорить титул государя и называть его благоверным, а также подходить под благословление архиереев-никониан. Она сказалась больной, чем вызвала гнев Тишайшего. Он послал за ней боярина Троекурова, а когда тот вернулся ни с чем, послал её свояка князя Петра Урусова «с выговором», но боярыня ответила, что никакой вины за собой не чувствует и что если царь хочет отвратить её от правильной веры, то она ему не покорится.
Зная взрывной характер царя, мы не удивимся, что он в гневе был способен на всё. И царь в отместку за неповиновение отписал часть имений Морозовой на себя. Но за Морозову вступилась старшая сестра царя Ирина Михайловна, и царь был вынужден морозовские вотчины вернуть хозяйке. Первый раунд открытого противостояния боярыня Морозова выиграла.
Царь, даже не будучи самолюбивым человеком, должен был стать врагом Морозовой. Никониане тоже не оставались в стороне, науськивали Алексея Михайловича и готовили Морозовой наказание. Князь Урусов, «бывая наверху», слышал, как царь обсуждает со своими приближёнными дальнейшую участь Морозовой, и попытался предупредить об этом свояченицу. Евдокия попросилась у мужа навестить сестру, и Урусов согласился, но просил не задерживаться в доме Морозовой, потому что к той «будет присылка». Евдокия осталась у сестры до поздней ночи.
Во втором часу ночи к Морозовой явились незваные гости: чудовский архимандрит Иоаким и думный дьяк Илларион Иванов. Архимандрит спросил хозяйку, как она крестится, в ответ Морозова перекрестилась двумя перстами. Архимандрит далее поинтересовался, где находится Меланья (её уже объявили в розыск), на что получил ответ, что в доме никого посторонних нет, что соответствовало истине, потому что накануне Морозова отпустила всех из дома. Евдокия Урусова подтвердила сказанное сестрой.
На другой день Иоаким рассказал о результатах визита к Морозовой царю. Алексей Михайлович сильно гневался на упорство Морозовой, в то время как к княгине Урусовой отнёсся мягко, считая её совращённой своей сестрой. Царь потребовал к ответу обеих сестёр, и архимандрит снова отправился выполнять приказание Тишайшего.
Придя в дом к Морозовой, архимандрит в грубой форме объявил ей, что время её богатства и упорства закончено и приказал её следовать за собой. Когда Морозова отказалась, архимандрит приказал посадить её в кресло и нести на ответ царю. Сын её проводил мать до ворот и вернулся назад. Княгиня Евдокия последовала за архимандритом добровольно.
Сестёр доставили в одну из соборных палат, где их встретил митрополит крутицкий Павел и начал говорить ей вещи, которые она слышала и раньше от Ртищева и его дочери. Он обвинил её в том, что она поддалась влиянию раскольников и позабыла о своих обязанностях матери. Боярыня ответила:
— Перестаньте мне говорить о сыне! Я дала Христу обет и останусь ему верна, для него я живу, а не для сына.
Её попросили причаститься по служебникам, по которым причащается царь Алексей Михайлович, но она отказалась сделать это, поскольку царь причащается по служебникам, извращённым Никоном.
— Так ты всех нас считаешь еретиками? — спросил Павел, на что боярыня ответила утвердительно.
Митрополит и присутствовавший Иоаким пришли в ярость, а затем стали допрашивать Евдокию. Она отвечала в том же духе, что и сестра, и тогда на обеих надели цепи и отправили Морозову в Печерское подворье, а Урусову — в Алексеевский монастырь. По дороге Морозова целовала цепи и благодарила Бога, сподобившего её «Павловых уз». Когда её несли через царские переходы мимо Чудова монастыря, Морозова сложила правую руку в двуперстие и, гремя цепями, высоко держала её, чтобы показать её царю, но Тишайший своей родственницы не увидел. Вместе с сёстрами была схвачена и посажена на цепь и близкая к сёстрам Мария Данилова.
В Алексеевском монастыре княгиню Урусову насильно заставляли ходить в церковь, но она отказывалась и когда разыгрывала из себя больную, монахини несли её в храм на носилках. И по дороге в храм, и в самом храме Евдокия разражалась бранью в адрес «Никоновой ереси». Морозову пытался обратить в правильную веру рязанский архиепископ Илларион, но тщетно. Морозова ухитрилась установить связь с Меланьей, её и сестру навещал также Ртищев, который сочувствовал обеим страдалицам и говорил, что не знает, за правду ли они страдают или…
Во время её заключения у Морозовой умер сын. Её больше всего сокрушало сознание, что её единственного сына при похоронах подвергли обряду по правилам никоновской церкви. Протопоп Аввакум утешал её, но, по мнению Строева, делал это грубо и в своих поучениях делал акцент на том, чтобы она готовила себя к роли мученицы и отказалась от всех мирских благ — например, от употребления мёда, и призывал приобщаться к простой водице.
А Тишайший продолжал гневаться: он приказал отобрать в казну всё достояние Морозовой и отослал из дворца двух её братьев. В противовес царю игуменья Алексеевского монастыря нашла дальнейшее нахождение Евдокии Урусовой в монастыре нецелесообразным и попросила патриарха Питирима вернуть её мужу, а боярыне Морозовой — вернуть её состояние. Царь на ходатайство Питирима не возражал, но предложил ему самолично допросить «лютую» Морозову, а уж он поступит потом с ней так, как покажется верным патриарху.
Морозову доставили в цепях в Чудовский монастырь, где её встретил патриарх, крутицкий митрополит Павел и другие церковные лица. Боярыня настолько ослабела, что её поддерживали двое стрельцов. Питирим держался с ней ласково и миролюбиво и спросил, неужели она так возлюбила цепи. Когда она с восторгом ответила утвердительно, патриарх предложил ей отказаться от своего упрямства, не гневить государя и причаститься. Морозова наотрез отказалась от причастия, поскольку причащать её было некому.
— Много попов в Москве, — сказал Питирим.
— Много попов, да нет истинного, — возразила Морозова.
Патриарх предложил ей свои услуги, но Морозова сказала, что он не лучше других.
Патриарх, приписав её бешенству, захотел помазать её, как бесноватую, миром, но она оттолкнула его руку и попросила удалиться от себя. Питирим не выдержал и обрушился на неё с бранными словами, а потом приказал увести её обратно в темницу.
Аналогичный допрос был произведен Питиримом с Урусовой и Даниловой и с тем же неудовлетворительным для него результатом. Патриарх доложил о результатах своих встреч с женщинами царю, и было решено подвергнуть упрямых пыткам.
На следующий день трёх женщин привезли на ямской двор и пустили сначала в ход дыбу. Жертву со связанными на спине руками вздёргивали в воздух, а под её ногами зажигали костёр.
— За что мне это? — спросила Морозова руководившего пыткой князя Воротынского.
— За то, — ответил князь, — что ты принимала юродивых Киприана и Фёдора и тому подобных людей и следовала их учению.
Данилову, как женщину простонародную, наказали ещё плетями ими же угрожали «угостить» высокородных Морозову и Урусову.
После пытки Морозову посетила Меланья и сообщила ей, что для её сожжения уже готовился сруб из поленьев, «и укрепила её на предстоящую мученическую кончину». Патриарх и в самом деле хотел сжечь еретичку на костре, но этому воспротивились бояре, в особенности князь Долгорукий. Решили воздействовать на неё кротостью. По мнению Строева, царь был готов помиловать Морозову и подослал к ней стрелецкого голову, который предложил боярыне «для вида» смириться и перекреститься тремя перстами. Царевна Ирина Михайловна снова выступила на защиту Морозовой и призвала брата смилостивиться над ней, напоминая ему о заслугах её покойного мужа и брата.
Царь «смилостивился» и приказал отправить Морозову в Боровск и посадить там её в тамошнем остроге в земляную яму. Вскоре туда же, к всеобщей их радости, привезли Урусову и Данилову. Первое время, благодаря заботам стрелецкого головы, которым был муж Даниловой, положение заключённых было более-менее сносным. Данилов обращался с просьбой к сотникам, отвечающим за их охрану, относиться к женщинам снисходительно-ласково. И в Боровске Мелания продолжала окармливать Морозову, Урусову и Данилову и укорять их за «узы брани бесовские». В ответ Морозова только целовала руки Меланьи и говорила, что согрешила, будучи длительное время без её руководства. И это при том, пишет Строев, что сама Меланья уклонялась от выполнения «уз Христовых».
Просьбы стрелецкого головы Данилова очевидно не выполнялись, потому что охрана отобрала у узниц все их убогие пожитки, а у Морозовой отняли последнюю её икону Пресвятой Богородицы. Местного жителя, пытавшегося оказывать узницам кое-какие услуги, подвергли пыткам. Потом Марию Данилову перевели в обычную тюрьму, а Морозову и Урусову стали морить голодом. Сначала умерла Евдокия, и её тело ещё долго лежало в яме, пока не пришёл приказ схоронить её во дворе острога.
К Морозовой прислали ещё раз инока с увещеваниями, но результат их был предсказуем. Она умоляла охранявшего его стрельца дать ей хоть что-нибудь поесть, но тот отказывался помочь ей, ссылаясь, что нет приказа. Просьбу перед смертью помыть грязную срачицу (рубашку) стрелец выполнили сбегал на речку постирать её. Власти выполнили и ещё одну просьбу боярыни — похоронить её рядом с сестрицей.
…В 1820 году на месте захоронения сестёр побывал знаменитый археограф, историк и член Петербургской АН П. М. Строев (1796—1876) и нашёл на нём камень с выбитым на нём текстом: «Лета 7… погребены на сем месте сентября в 11 день боярина князя Петра Семёновича Урусова жена его княгиня Евдокия Прокопьевна, да ноября во 2 день боярина… жена… Морозова боярыня Феодосия Прокопьевна, а в иноках инока-схимница Феодора, а дщери окольничаго Прокопия Фёдоровича Соковнина. А сию цку положили на сёстрах своих родных боярин Фёдор Прокопьевич да окольничей Алексей Прокопьевич Соковнины».
Наши староверы чтут Морозову, Урусову и Данилову как святых мучениц. Житие о них написано с большим талантом одним современником, видевшим их в Боровской темнице. Подвиг, совершённый Морозовой, вдохновил художника Сурикова на создание знаменитой картины.

Глава 3. Михаил Суслов — политический агент XVII века
Автор предлагаемого ниже очерка — Николай Николаевич Оглоблин, исследователь сибирской повседневности XVII — XVIII в. в. В 1894 году он закончил титанический труд, описав документацию Сибирского приказа (1592—1768), за что и удостоился премии АН России им. И. М. Сибирякова. Он автор более 100 различных статей, очерков и сообщений, он создал новый тип архивного обозрения и образовал категорию архивных работников, на которых, как утверждает википедия, держится московский архив Министерства юстиции.
Московскому правительству стоило немалых усилий собирать сведения о положении в соседних Турции, Польши и Швеции, борьба с которыми, тайная или явная, шла беспрерывно. Своих резидентов Москва в этих странах часто не имела, а если они там на какое-то время и посылались, то связь с ними была спорадической и нерегулярной. Приходилось возлагать разведывательные задачи на воевод приграничных городов, которым вменялось в обязанность опрашивать выходцев из зарубежья — купцов, перебежчиков, переселенцев, включая и возвращающихся из чужого полона русских подданных, и посылать полученные данные в Посольский и Разрядный приказы в Москву. С другой стороны, воеводы засылали в указанные страны и своих лазутчиков или «вестовщиков», набиравшихся из самых разных слоёв городского и сельского населения. Для добывания нужной информации лазутчики использовали не только прямые контакты с её носителями, но прибегали к подкупам, переодеваньям и прочим приёмам, что, конечно, не всегда сходило им с рук: турки, поляки, немцы и шведы знали об этих людях, их ловили и наказывали.
Оставаясь в этой роли длительное время, «вестовщики» постепенно становились для Москвы важными политическими агентами. Хорошо усвоив требования Москвы, они добывали ценную и полезную информацию и, в отличие, например, от полоняников, не несли всякую околесицу и несуразицу о «заморских чудах» с тремя головами. С ними могли только конкурировать торговые люди, заводившие полезные связи в самой гуще зарубежного общества и хорошо представлявшие её реалии.
Служебное положение лазутчиков и предъявляемые к ним требования становится ясным из воеводских «наказов». Например, в наказе великолуцкому воеводе стольнику О. В. Бутурлину от 23 февраля 1630 года предписывалось «выбрать на Луках из посадских людей и из пашенных крестьян и из всяких людей лазутчиков, добрых людей и разумных, которые к тому государеву делу пригодятся, кого пригоже, и привести их к государеву крестному целованью на том, что им государю служить, в литовские города лазучить ходить и вестей всяких проведывать подлинно, а московских никаких вестей на смуту и никакого дурна литовским людям, опричь добра, ничего не сказывать, и в подарках ничего не имать, и литовских людей к государевым городам изменю не привесть, и во всём государю служить в правду, без всякой хитрости».
После присяги, воевода должен был назначить им жалованье, исходя из характеристики завербованного, его положения и полученных им ранее «дач». Имена лазутчиков воевода был обязан сообщить в Разрядный приказ. Лазутчики должны были разведывать «всякими обычаи и накрепко», т. е. основательно и точно, про короля и королевича, о сборах и передвижениях ратных людей, о сеймах, об отношениях Польши к Турции, Крыму и Швеции. Но самой главная задача лазутчиков заключалась в том, чтобы выяснить, нет ли у короля «какого умышленья на московское государство». Отправлять лазутчиков в Литву нужно было «почасту» и сообщать о результатах и работы «почасту же». Лазутчиков, которые вернутся обратно с «прямыми», т. е. достоверными сведениями, предписывалось награждать сверх государева жалованья «по полтине или по рублю, и смотря по вестям».
В числе политических агентов Москвы Н. Н. Оглоблин называет киевского лазутчика Михаила Яковлева Суслова, действовавшего уже во времена царя Алексея Михайловича Тишайшего. Киевские воеводы, на фоне завязывавшихся тугих узлов в отношениях России с Турцией, Польшей и Крымом, играли в это время важную роль в дипломатических и военных усилиях Москвы, и сам Суслов писал, что был лазутчиком «в самые нужные и в самые тревожные времена».
В «вестовых отписках» последней четверти XVII века имя М. Я. Суслова встречается довольно часто, из чего Николай Николаевич делает логический вывод о том, что роль этого человека в делах московской дипломатии была довольно значительна, а полученные им сведения были и ценными, и своевременными, и точными. Что было не удивительно: Михаил Яковлевич «лазутчил» целых 25 лет (1669—1694), а это означало, что он служил также и царю Фёдору Алексеевичу, и царевне Софье с Василием Голицыным, и молодым царям Ивану V и Петру I. Редкий год проходил без того, чтобы он не совершал 2—3 успешные «экскурсии» в Польшу. Действовал он, говоря современным языком, под торгово-купеческим прикрытием, используя свои связи и среди московских купцов, а то, что он ни разу не провалился, свидетельствовало о его высоких профессиональных качествах.
О том, что деньги были одним из его главных инструментов для добычи информации, говорить не приходится. Был он человеком денежным. Так в 1686 году он попросил московское правительство компенсировать его оперативные расходы на сумму 1327 рублей! Нельзя не пожалеть, сокрушается Оглоблин, что Суслов не оставил нам подробную роспись своих расходов при подкупе поляков: получилась бы весьма поучительная картинка! Упомянутую сумму приказ Малой России Суслову не выплатил и ограничился выдачей ему… 100 рублей. Вероятно, дьяки приказа сослались на то, что Суслов в оправдание своих расходов не представил ни описей, ни расписок о выдаче денег своим агентам. Да и позволяла ли обстановка к соблюдению таких формальностей?
Руководитель Разрядного приказа дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев (1641—1708) выполнил, однако, другую просьбу Суслова — он приказал писать его в детях боярских по г. Стародубу, о чём Москва уведомила киевского воеводу окольничего князя Василия Фёдоровича Жирового-Засекина.
Помимо разведывательной информации, Михаил Яковлевич привозил в Киев т. н. «печатные авизы», т.е. европейские газеты. Так в 1693 году он доставил в Киев «300 овизов печатных да 3 листа о всяких немецких и цесарских и турских и крымских и польских поведениях».
Кроме Польши, его посылали в Валахию и Цесарские земли, а также в Венецию. Он владел многими иностранными языками, но лучше всего владел польским и латинским языками. Возвращаясь из поездок в Киев, он и там не сидел сложа руки, а активно помогал Киевской приказной плате в качестве переводчика. В челобитной царям Ивану и Петру Алексеевичам в 1693 году он писал, что «все тайные письма из Польши и других стран… я холоп ваш… на русской язык переводил сам, а иноземцы тех надобных писем не переводили, чтоб было тайно и в делах было правдиво». Отсюда видно, каким неограниченным доверием пользовался Суслов у киевских воевод. Когда в Киеве появлялись пленные и выходцы из Польши или Валахии, воеводы немедленно вызывали к себе Суслова «для росспросу и для всяких ведомостей и переводов, денно и нощно, непрестанно». С 1686 года по 1693 год Суслов был в 12 «посылках», чаще всего в Польшу, реже — в Цесарскую землю. О количестве посылок в 1672—1685 гг. конкретно не говорится, а употребляется слово «многажды».
А вообще его служба, как поётся в одной современной песне, была и опасна, и трудна. В 1693 году на него было совершено разбойное нападение — и не где-то в чужеземье, а в ридной Киевщине! Разбойниками оказались… супруга «незалежного» генерального есаула Андрея Гамалеи и его родственники, целью нападения — захват дипломатической почты, которую Суслов должен был везти в Москву. Документов при нём не нашли, взяли деньги и несколько рубах с портками, а владельца портков жестоко избили.
О происхождении Михаила Суслова достоверных сведений Оглоблину добыть не удалось. В актах XVI — XVII вв. среди дворян и детей боярских встречается фамилия Суслов, но являлся ли наш герой их потомков, неизвестно. В последней четверти XVII века в киевской приказной избе значились подьячие Тимофей и Осип Сусловы — то ли братья Михаила, то ли другие его родственники. Об отце в отписке киевского воеводы князя Козловского в июле 1671 года говорится, что были доставлены сведения из Волошской земли Мишкою, сыном киевского пушкаря Яшки Суслова. Когда в 1686 году Михаила Суслова поверстали в службу, то велено было его «написать в дети боярские по Стародубу, а жить и служить ему по-прежнему в Киеве». Со временем род Михаила Суслова перешёл в купечество.
От Михаила Яковлевича остались две челобитные — обе за ноябрь 1693 год. В одной из них он описывает совершённое на него разбойничье нападение, а в другой раскрывает детали своей долголетней службы лазутчика. Посылали его и с официальной миссией с государевыми грамотами и с «листами» к московским резидентам, т. е. в качестве дипломатического курьера, а также «к корунным и вольным гетманам в обозе» и к другим представителям польской власти, но главным его занятием было проведывать «всякие неприятельские замыслы».
Естественно предположить, и Суслов это подтверждает, что он пользовался услугами агентов, которым платил в основном из своего кармана, так как «государева жалованья из Киева к ним ничего не посылано». «Радея великим государям истиною», Суслов давал в Польше и др. странах разным лицам «почести» (подарки, деньги), чтобы они писали правду». И сам Суслов, начиная с 1669 года, на протяжении 17 лет не получил ни одного гроша государственного жалованья! Ему платили лишь какую-то разовую мзду за доставленную информацию. Только в 1686 году учинено ему было «годового жалованья чеками 15 Рублев, хлеба против того ж, и велено мне служить по Стародубу, а поместья и вотчин за мной нет нигде, и тем мне вашим жалованьем прокормитца с женишкою и с детишками нечим». Когда в 1687 году он находился «в командировке» в Польше, в Киеве у него со «всеми пожитками» сгорел дом, однако «и за то пожарное разорение ничего мне вашего жалованья на дворовое строение не дано», — жалуется он московским кураторам. Получается, что работал он на одном голом энтузиазме!
Суслов сообщает имя только одного своего агента — некоего шляхтича Юрия Попару и пишет, что он «многажды и тайно» получал от Попары «письма с вестями, которые доставляли разные „проходцы“». В Волошской земле у него тоже были «знакомцы» — вистирняк и приколаб, должностные лица в центральном управлении Валахии. Скромность всегда украшала разведчика — не избежал этого украшения и Михаил Суслов. За него говорили далеко не скромные результаты работы.
В 1693 году киевский воевода стольник князь Лука Фёдорович Долгоруков послал Суслова в Гродно на помощь резиденту Борису Михайлову, где собирался «великий сейм», но Михайлова там на месте не оказалось, и Суслов направился к нему в Варшаву. На эту поездку и «на прокормление» Михаил Яковлевич истратил 100 кровных рублей и, судя по всему, государевой компенсации за них не получил.
В том же 1693 году Суслов снова ездил к Борису Михайлову в Варшаву — на сей раз с отписками киевского воеводы боярина князя Петра Ивановича Хованского. Обратно Суслов ехал в Киев с архивом московских резидентов в Польше и благополучно доставил его «со всяким великим опасеньем, не щадя головы своей». И опять вёз он дела «на своих подводах и проторях и харчах, за кои ничего не получил из государевой казны». О заслугах Михаила Яковлевича перед московскими приказами киевские воеводы отчитывались регулярно, так что недостатка в информации на этот счёт в Москве не было, но никому там и в голову не пришла мысль о достойном поощрении своего верного слуги.
В конце челобитной Суслов пишет: «От многих дальних посылок в разныя государства и от дачи почестей я, холоп ваш, оскудал и одолжал многими неокупными долгами и пришёл в убожество и в совершенную нищету, и ныне, государь, питаюсь с женишкой и детишками своими мало что не Христовым именем, и дворишка построить мне нечем — за скудостью скитаюсь по чюжим дворам…» Говоря современным языком, деньги на командировочные расходы киевские воеводы давали такие ничтожные, «что и поднятца нечем». Суслов просит учинить ему «придачу» к окладу денежному и хлебному и «подённый корм давать против дворян московских и кормовых иноземцев» и ходатайствует о том, чтобы написать его по московскому списку.
Оказывается, Москва содержала Суслова по второму или третьему разряду, в то время как служилые люди центрального аппарата по своему денежному содержанию значительно превосходили провинцию. Вероятно, особенно обижал Суслова тот факт, что его ценили меньше, чем т. н. «кормовых иностранцев». Челобитная от ноября 1693 года была год спустя успешно отклонена. Великие государи Иван и Пётр Алексеевичи пожаловали ему в утешение всего 20 рублей из киевских доходов.
Кстати, Оглоблин упоминает о челобитной Суслова, поданной в 1692 году, в которой тот тоже ходатайствовал об уравнивании его в жаловании наравне с московскими дворянами, но и тогда его челобитную отклонили, расщедрившись на выдачу ему … 15 рублей из сумм Новгородского приказа. В грамоте киевскому воеводе по этому поводу велено Суслова «посылать впредь в Польшу и в иные городы для проведывания ведомостей, потому что он для того и в Киеве живёт и даётца ему по все годы жалованье денежное и хлебное». Все дополнительные просьбы Суслова в Москве считали чрезмерными, в том числе и желание его, сына пушкаря, только что поверстанного в дети боярские, уравняться с положением московских дворян или, как пишет Оглоблин, «втереться в московский список». Николай Николаевич полагает, что московское правительство в отношении Суслова поступало правильно: «Нельзя не отнестись с уважением к такому такту московского правительства XVII века», — пишет он.
Мы не будем вступать с Оглоблиным в полемику и оспаривать его мнение, на которое он, вероятно, имел свои основания.
Вторая челобитная Суслова за 1693 год посвящена упомянутому выше разбойничьему на него нападению. История эта тесно связана с выполнением Сусловым поручения о доставке в Киев архива московских резидентов в Польше. По прибытии в Киев воевода П.И.Хованский немедленно отправил Михаила Яковлевича с делами в Москву, дав ему в помощь подьячего Никифора Иванова и несколько рейтар с почтарями.
Из Киева Суслов выехал 10 сентября, и не успел он со своим сопровождением отъехать от города 2,5 вёрст, как в Броварском лесу их остановила группа всадников: «3 кореты да вершников черкас с человек 30-ть». Это оказались со своими казаками и челядниками «подданного вашего… гетьмана Ивана Степановича Мазепы осоулова его енарального жена Гамалеина с детьми своими и с зятем, бывшего Прилуцкаго полковника сын меньшой Лазаренко». Казаки и челядники по приказу сына Гамалея и Лазоренко напали на рейтар и почтарей и стали их бить. Суслов соскочил с телеги и стал защищать своих рейтар, но черкасы набросились на него, нанесли ему саблями рану (в трёх местах прорубили щёку), а потом стали нещадно бить Суслова, уже лежавшего без сознания на земле.
Затем нападавшие забрали с телеги перемётные сумы, надеясь найти в них упомянутые дипломатические документы, но документов в них не оказалось — в них были деньги, принадлежавшие Суслову и купцам Маркову и Добрынину, т.н. проезжий лист и бумаги на наём подвод. Архивные документы были хорошо спрятаны Сусловым на дне телеги. Н. Иванов с раненым Сусловым и разграбленным обозов вернулся в Киев и сдал снова документы воеводе Хованскому. На другой день в сопровождении сильного отряда Иванов снова выехал в Москву.
Суслова 5 недель лечили московские лекари, а Хованский провёл следствие, опросив все жертвы нападения, и отправил бумаги в Москву. Оправившись от раны, М.Я.Суслов тоже поехал в Москву и оформил там свою вторую челобитную, ходатайствуя о том, чтобы Мазепе было дано указание расследовать бесчинства своих подчинённых, восстановить справедливость и компенсировать его материальные и моральные издержки. «Великие государи, смилуйтеся, пожалуйте!» — таким воплем закончил он свою челобитную.
В приказе Малой России повторно сняли показания с Иванова, Суслова и сопровождавших их лиц, Суслов продемонстрировал свою раненую голову, а великие государи направили Мазепе грамоту с требованием учинить расследование происшествию и о результатах доложить лично им.
Н. Н. Оглоблин заканчивает свой очерк словами о том, что ни о результатах этого расследования (если оно вообще было), ни о судьбе самого Суслова после 1693 года, ему не известно.
Наш комментарий.
Нет повести печальнее на свете…
А всё вышеоисанное происходило потому, что профессия лазутчика — разведчика, шпиона — на Руси долгое время считалась если уж не совсем зазорной, то, во всяком случае, недостойной истинного дворянина или боярина. Должно было пройти три с лишним столетия, пока труды разведчика получили в нашем государстве достойную оценку. В какой-нибудь Мелкобритании какая-нибудь Елизавета такого шпиона, как Суслов, произвела бы немедленно в лорды и подвязала ему под коленом мотающийся орденок, а у нас его били (условно, слава Богу!) по сусалам и говорили: куды ты со своим свиным рылом лезешь в московские дворяне!
Вот и выродился род сыскаря Михаила Суслова и перешёл в купеческое сословие. А Н. Н. Оглоблину большущее спасибо за то, что вытащил его из забытья.
Глава 4. Г. Г. Скорняков и А. Девиер в сибирской ссылке
Несколько предварительных слов об авторе и героях его очерка.
Александр Степанович Сгибнев (1826—1881) — замечательный наш историк и историограф Камчатки, капитан 1 ранга, исследователь Балтийского моря, Шилки, Амура и Камчатки. Его главный труд — «Исторический очерк главнейших событий в Камчатке с 1650 по 1856 гг.» Читателям он представлен в моём очерке о бунте Беньевского на Камчатке. В статье А. С. Сгибнев рассказывает о судьбе сосланных в 1727 году в Сибирь двух «птенцов» Петра I:
— генерал-майора, обер-прокурора Сената, директора Морской академии, автора первого русского сочинения о механике и руководителя строительства Ладожского и Лиговского каналов Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева (1675-после 1745);
— генерал-адъютанта, генерал-аншефа и первого полицмейстера Петербурга Антона Мануиловича Девиера (1674 или 1682–1745).
Причиной ссылки и опалы двух виднейших сподвижников Петра I послужил гнев светлейшего князя А. Д. Меншикова: светлейший всеми силами старался выдать свою дочь Марию за императора-отрока Петра II, в то время как Скорняков-Писарев и Девиер выступили против этого. Девиер, женатый на Анне Даниловне Меншиковой, сестре светлейшего, уже и ранее «насолил» своему шурину, представив в начале 1727 года доклад о неправомерных действиях Меншикова в Курляндии.
Скорняков-Писарев и Девиер по инициативе светлейшего были ложно обвинены в намерениях свергнуть с престола Петра II, после ареста подвергнуты жестоким пыткам, биты кнутом, лишены всех званий и чинов и по манифесту Петра II от 27 мая 1727 года высланы в Якутскую область.
По прибытии в Якутск ссыльных определили в м. Жиганск, где и проживали около трёх лет под строгим надзором.
По результатам первой экспедиции (1728—1729) Витуса Беринга было признано необходимым учредить в Охотском остроге, вместо ясачной избы, Охотское управление, независимое от Якутска и построить при устье реки Охота порт. 23 апреля 1731 года петербургский сенат выслал в Сибирский приказ особый указ, в котором, между прочим, было указано: «Григорий Скорняков-Писарев… определён в Охотск, с тем чтобы он имел главную команду над тем местом».
За этим указом 10 мая того же года последовал именной указ императрицы Анны Иоанновны об определении Григория Григорьевича в Охотский острог. Ему было назначено жалованье 300 руб. в год, «да хлеба всякаго, каким он взять захочет, по сту четвертей и вина простаго по сту вёдр в год». Он поступал в распоряжение Иркутской провинциальной канцелярии, а в приложенной к указу инструкции, подписанной генерал-прокурором П. И. Ягужинским (1683—1736), поручалось заселить Охотск и учредить в нём верфи и пристани. В том же году в Охотск прибыли 153 человека ссыльных заключённых, т. н. неоплатных должников, в основном купцов и мастеровых, которым каторгу заменили работой под руководством Г. Г. Скорнякова-Писарева.
В начале 1732 года Скорняков прибыл в Якутск и потребовал от воеводы Жадовского немедленно отправить в Охотск рабочих и провиант, но якутский воевода, по ссоре с ним, выполнить это требование отказался. 1 июня Скорняков доложил в Иркутскую канцелярию, что выполнение сенатского указа застопорилось из-за позиции Жадовского. 11 июля он отправил в Охотск штурмана Бирёва и 23 казаков для заготовки там леса, но «по недостатку кормов» 8 человек из команды умерли, а остальные разбежались.
Между тем 19 октября Скорнякову из Иркутска пришло распоряжение: «Требовать всё от якутской воеводской канцелярии, не взирая ни на какие бездельные и плутовские отговорки Жадовского», а самого Жадовского предлагалось посадить на цепь и держать его в канцелярии в железах до тех пор, пока не учинит Писареву «надлежащее отправление». Скорнякову-Писареву не впервой было осуществлять такие распоряжения — в бытность Петра I он своими ревизиями наводил настоящий страх на провинциальных царских воевод, — и в точности исполнил распоряжение иркутского губернатора. К середине февраля 1733 года он заготовил необходимый провиант и построил на р. Лене баркасы для сплава грузов, в то время как сам готовился отправиться в Охотск.
Но ссора с Жадовским не осталась для него без последствий — 12 сентября в Якутск пришёл новый именной указ: «Как учреждённый от Сената в Охотск ссылочный Скорняков-Писарев, для заведения там морских судов, в порученном ему деле оказал малые успехи, то имянным указом повелено: отправить на Камчатку паки капитан-командора Беринга для заведения онаго судоваго дела, а Писарева отослать обратно в Якутск или Жиганы». Указ был датирован 15 мая 1732 года, т. е. в разгар неурядиц, связанных с «забастовкой» Жадовского. Похоже на то, что иркутская канцелярия, давая советы Скорнякову о том, как сломить сопротивление якутского воеводы, в своём докладе в Петербург сделало Григория Григорьевича виноватым в замедлении охотского предприятия.
Приверженцы Жадовского, возглавляемые сотником Аргуновым, тотчас освободили воеводу из-под ареста, а 13 февраля закрыли городские ворота и завалили их деревянными колодами, препятствуя таким образом доступу в Якутск Скорнякову и его команде, расположившимся в пригороде. 19 февраля Аргунов арестовал Скорнякова, а подканцелярист Бугаев прочёл ему текст упомянутого выше указа. После этого Аргунов отобрал у арестованного шпагу и посадил в острог за решётку под замок. Он продержал Скорнякова в тюрьме две недели, а потом под усиленным конвоем на оленях отправил его в Жиганск.
Жадовского уволили и вместо него воеводой Якутска назначили Серёдкина. И новая неожиданность: в сентябре 1733 года, спустя полгода после ареста Скорнякова, в Якутск с нарочным пришёл новый сенатский указ, который предписывал: «Писареву быть по-прежнему в Охотске до указу и отправлять всё по прежде посланным к нему указам и инструкциям непременно». И 21 ноября Григорий Григорьевич снова появился в Якутске, чтобы всё начать с начала: команда его «самоликвидировалась», а провиант пошёл на снабжение второй экспедиции В. Беринга.
На сей раз препятствия оказались более тяжёлыми, чем при Жадовском: Беринг был больше озабочен своей экспедицией, чем оказанием содействия Писареву. Между ними начались ссоры. Беринг обвинил Писарева в бездействии (!) и 31 декабря 1734 года доносил в адмиралтейств-коллегию, что «не только в Охотске хлеб и люди умножены или пристойныя суда и заведения строить начаты, но и мастеровые были задержаны в Якутске».
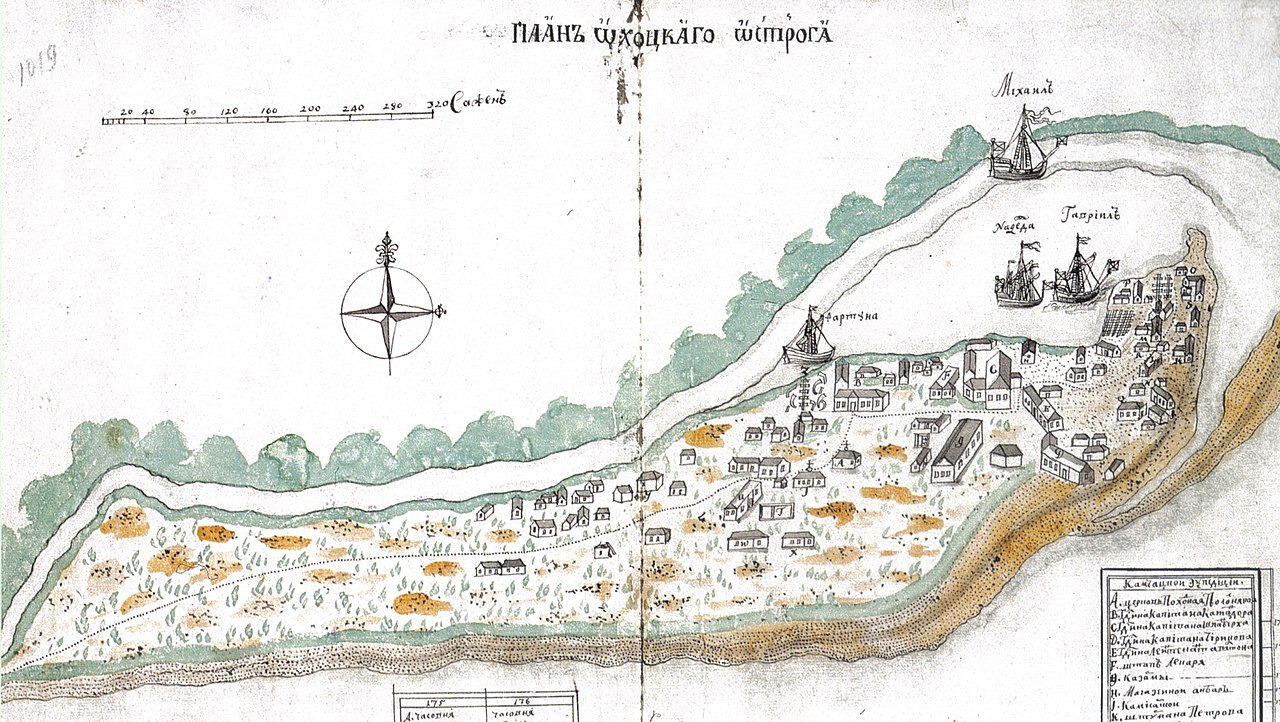
Наконец к осени 1735 года Скорняков-Писарев прибыл в Охотск, где помощник Беринга, тоже датчанин капитан 1 ранга М. П. Шпанберг (1696—1751) занимался постройкой для экспедиции судов. В начале 1836 года Скорняков заложил порт недалеко от того места, где Шпанберг строил суда. Облечённые большой и примерно равной властью, Шпанберг и Скорняков скоро поссорились. Шпанберг стал посылать Писареву предписания, в которых доказывал, что устройство Охотского порта предназначено для целей экспедиции, а потому он считал себя в праве действовать самостоятельно. Писарев, со своей стороны, доказывал, что в Охотске он — главный начальник. Начались с обеих сторон доносы и кляузы в Иркутск.
Григорий Григорьевич писал, что Шпанберг взял у него силой почти всех мастеровых, которых жестоко наказывает, забрал весь провиант, и «ведёт дружбу с присланными навесно князем Алексеем Барятинским и князем Василием Долгорукими взял их к себе в команду… а в премемориях своих мне пишет яко некоторый князь: мы разсмотрели, мы повелели, а не так как партикулярные персоны пишут себя единственным числом… Боты „Гавриил“ и „Фортуну“ взял в своё ведение и мне не отдаёт, для того чтобы все, идущие в Камчатку и обратно, были ведомы ему, Шпанбергу, для корысти».
Подобных доносов Писарева не было числа, пишет Сгибнев. Например, такой: якут Такунай и служилый Сафонов застрелили из луков медведя, но Шпанберг присвоил этот «подвиг» себе и повесил на месте гибели животного доску с соответствующей надписью. Копию этой доски Григорий Григорьевич приложил к доносу.
Шпанберг не уступал Скорнякову и доносил о его пьянстве и разврате: в Охотске Скорняков окружил себя обширной женской прислугой, фактически составившей его гарем, брал взятки и задерживал служащим жалованье (за что, кстати, преследовал в своё время петровских воевод), брал с инородцев двойной ясак, с подчинёнными был предельно жесток, засекал до смерти за малейшее преступление. Шпанберг, по свидетельству Сгибнева, грубый, дерзкий и необразованный человек, брал над Скорняковым верх, поскольку пользовался поддержкой Беринга, а за Берингом стояла адмиралтейств-коллегия. При отсутствии аргументов датчанин прибегал к кулакам, так что Григорий Григорьевич, по существу, бесправный ссыльный, чувствуя себя бессильным, оставил охотское «поле боя» и в сентябре 1736 года вернулся в Якутск.
Летом 1737 года Скорняков вместе с Берингом снова приехал в Охотск и приступил к устройству порта, однако снаряжение экспедиции Беринга отнимало много времени и ресурсов, и обустройство порта шло с большим трудом: в течение двух лет были построены деревянная церковь и две избы. А тут и подоспели в Петербург сведения о развратном поведении Григория Григорьевича, и Анна Иоанновна указом от 13 апреля 1739 года повелела вместо ссыльного Скорнякова-Писарева назначить главным в Охотске ссыльного Антона Девиера: «а жалованье давать по тому ж, как определено было Скорнякову-Писареву».
Сибирский приказ уведомил об этом Девиера 28 августа, предписав ему отправиться в Охотск немедленно, принять присягу и отправить её в сенат: «И велено тебе по прибытии в Охотск сменить Писарева и поступать во всём по его инструкции. А Писарева по смене держать под арестом, а о доносах Беринга, Шпанберга и его, Писарева, друг на друга изследовать на-крепко». Итак, главным командиром в Охотске назначался пострадавший за одно дело с Писаревым Антон Мануилович Девиер.
Девиер в апреле 1740 года прибыл в Иркутск. Когда он появился в Охотске, выяснить не удалось, но его первый отчёт оттуда датирован ноябрём 1740 года. Он сразу принялся за дело. Сгибнев характеризует его как честного, справедливого и энергичного начальника. Охотский порт он нашёл в самом бедственном положении: «люди претерпевали голод, малым пропитанием едва дни живота своего препровождали». Экспедиция Беринга была почти готова к походу, и Девиер всё своё внимание обратил на постройку порта, судов и необходимых зданий. Он завёл школу, которая послужила основанием для штурманского училища сибирской флотилии. Она просуществовала 100 лет и служила источником знаний для всей северо-восточной Сибири.
При вступлении в командование Охотским портом Девиер арестовал Скорнякова-Писарева, описал и продал с аукциона его имущество, а вырученные деньги употребил на выплату команде порта жалованья, которого она не получала несколько лет. При проведенном следствии Антон Мануилович выявил все злоупотребления Григория Григорьевича и донёс о них в Сенат. К этому времени на трон взошла Елизавета Петровна, именным указом от 1 декабря 1741 года освободила и Девиера, и Скорнякова –Писарева из ссылки. Указ был получен в Иркутске 3 марта 1742 года, а в Охотске Писарев всё ещё сидел в тюрьме до самого июля.
11 июля Девиер сдал свою должность в Охотске и направился в Петербург, следом за ним выехал и Скорняков. По возвращении их в столицу 23 апреля 1743 года высочайшим указом им были возвращены генеральские чины, а Девиеру — и графское достоинство, имение в Белгородской губернии и пост петербургского полицеймейстера, на котором он 26-ю годами ранее был арестован. Тяжёлые условия ссылки сказались на состоянии здоровья, и Антон Мануилович в 1745 году скончался. (О судьбе жены Анны Даниловны тоже мало что известно: она родилась в 1689 году, вышла замуж за Антона Девиера вопреки сопротивлению своего брата и при помощи Петра I — наш «полудержавный властелин», вышедший из грязи в князи, считал кандидатуру португальского дворянина для своей сестры неподходящей — и скончалась, по данным интернета, в 1750 году. В браке у супругов Девиеров было 4 детей).
Скорняков-Писарев, восстановленный в чинах и звании и получив обратно все свои ордена, в прошении на высочайшее имя ходатайствовал о возвращении ему пожитков, взятых Девиером в казну при его аресте в Охотске. Началась бюрократическая переписка, в ходе которой выяснилось, что наиболее ценное и непроданное движимое его имущество было отправлено в Сибирский приказ. В марте 1745 года все эти вещи стоимостью в 824 рубля были ему возвращены с уплатой пошлины в размере 82 рубля 40 копеек и стоимости транспортировки из Охотска в Петербург в сумме 42 рублей 73 и 1/4 копеек.
После 1745 года о судьбе его истории ничего не известно.
Глава 5. Русский Ришелье А. Л. Ордин-Нащокин (1605—1680)
Прорубивший окно в Европу Пётр I не был первым русским государем, пытавшимся завязать отношения с западными странами и воспользоваться достижениями этих стран в интересах России. Этой точки зрения придерживались не все русские историки, многие отдавали несомненное предпочтение в этом деле именно Петру Великому (например, С. М. Соловьёв). Тем не менее, исторические факты свидетельствуют о том, что ещё Иван Грозный сознательно и систематически пытался соединить Россию с Западом. Этой же политики придерживался Борис Годунов, и только Смутное время приостановило на некоторое время этот процесс. Во время правления царя Михаила Фёдоровича Россия поддерживала активные отношения с королём Швеции Густавом II Адольфом и Францией. Политика заимствования новшеств у европейских стран продолжилась и в период царствования Алексея Михайловича (Тишайшего).
В. С. Иконников (1841—1923), академик СПбАН и профессор Университета Св. Владимира в своих трудах, признавая роль Петра в сближении России с Западом, настойчиво проводил мысль о том, что и Пётр начинал свои нововведения не на пустом месте, и что влияние Запада и западных достижений уже чувствовалось и в допетровской России. Под этим углом зрения Владимир Степанович и представляет нам А. Л. Ордин-Нащокина, государственного деятеля и советника Алексея Михайловича Тишайшего.

Иконников утверждает, что Нащокины прибыли в Россию из Италии. Первый из них поступил на службу к великому князю тверскому Александру Михайловичу, крестился по православному обряду и получил имя Дмитрия Красного. Сын его Дмитрий в 1327 году участвовал в битве тверян с отрядом ханского посла Шевкала, в которой был ранен в щёку и получил кличку «Нащокин». Правнук его, убитый в сражении при Орше в 1514 году, получил кличку «Орда», превратившуюся потом приставку «Ордин».
Потомки Ордин-Нащокиных не выдвигались на важные должности и служили главным образом воеводами использовались при посылках в другие страны. С именем двинского воеводы П. А. Нащокина связано основание Архангельска, план которого был предложен на рассмотрение Ивану Грозному. В летописях содержится упоминание об Ордин-Нащокине воеводе Белгорода, о послах в Константинополь (1592—1593) и Грузию (1601).
Отец нашего героя был скромным псковским помещиком. Псков имел прочные торговые связи с Прибалтикой, Польшей, Швецией и в некотором смысле играл роль культурного центра. Поэтому нам не покажется странным, что Лаврентий Ордин-Нащокин учил сына Афанасия латинскому и немецкому языку и математике, что и позволило московскому правительству обратить на него внимание. Так уже в 1642 году царь Михаил Фёдорович отправляет Афанасия Ордин-Нащокина на шведскую границу для осмотра земель, отошедших к Швеции по Столбовскому договору 1617 года.
С этих пор Афанасий Лаврентьевич пользуется у московского правительства авторитетом знатока немецкого дела и немецких нравов. В начале царствования Алексея Михайловича Нащокин обратил на себя вниманием подавлением в феврале 1650 года Псковского бунта, направленного против немцев. В Пскове в это время находился гость (купец) Фёдор Емельянов, друживший с немцами и открыто хваливший их веру, и Нащокин вместе с купцом едва не сделались жертвой бунта, что, по мнению Иконникова, указывало на то, куда клонились симпатии Нащокина в это время. Бунт подавлял князь И. Н. Хованский, а Нащокин служил ему советником. Князь отозвался с похвалой о Нащокине, сыгравшем видную роль в его походе, что, по всей вероятности, сделало имя Нащокина известным у царя.
В 1656 году Нащокин уже является воеводой в г. Друе, отвоёванном у поляков, а начатая в том же году война со Швецией открыла ему путь к новому возвышению, потому что сам царь участвовал в походе и имел возможность ближе узнать друйского воеводу. Алексей Михайлович стремился освободиться от невыгодного для страны Столбовского мира и хотел утвердиться на берегах Балтийского моря. Ордин-Нащокин стал активным и важным советником царя в претворении в жизнь этой политики.
Начавшаяся успешным завоеванием ряда ливонских городов (Динабург, Кокенхаузен, Дерпт) война, завершилась неудачной осадой Риги и отступлением русского войска к Полоцку. Алексей Михайлович поручил Ордин-Нащокину начать мирные переговоры со шведами. К этому времени Афанасий Лаврентьевич стал воеводой в г. Дмитриев, сохранив воеводство и в Друе, и практически стал главным начальником в этом крае.
В середине 1657 года Нащокин рапортовал царю о тяжёлом положении в подведомственном крае. Начатые было переговоры со шведами при посредничестве курляндского герцога Якова застопорились. Афанасий Лаврентьевич поставил условием мира принятие жителями Риги русского подданства, для чего требовалось наличие воинской силы, но таковой у него не было. Он жаловался на разбойничьи мародёрские действия собственных полоцких казаков, отчего стали разбегаться крестьяне. В конечном итоге в начале 1658 года ему удалось привести Курляндию под покровительство России, за что царь пожаловал его в думные дьяки и наместники шацкие.
Ордин-Нащокин своей неутомимой деятельностью и умом настолько выделялся на фоне московских бояр, что Тишайший сказал: «А служба твоя забвенна николи не будет». И царь не забыл и не дал затеряться Афанасию Лаврентьевичу среди мелких своих чиновников.
В начале 1659 года снова разгорелась война с Польшей, толчок к которой дала измена преемника Б. Хмельницкого гетмана И. Е. Выговского, и Нащокин переключил свое внимание на польско-малороссийские дела. Его приказания выступить в поход против литовцев казаками и рейтарами игнорировались: по старому обычаю они ждали соответствующих указов из Москвы. Даже видя, что сосед испытывает потребность в помощи, русские воеводы и пальцем не шевелили, чтобы прийти ему на помощь без указа. А Москва была далеко и огорожена толстыми бюрократическими стенами. Тишайший прибег к массовой вербовке на службу России иностранцев, и в разношерстном русском войске появились, наконец, полки, более-менее подготовленные иноземными офицерами.
Не менее недоволен был Нащокин и русской дипломатией.
В Москве задумали поссорить гетмана Выговского с находившимся с ним в союзе крымским ханом, на что Афанасий Лаврентьевич смотрел весьма скептически, указывая на отсутствие квалифицированных дипломатов, способных осуществить задуманное. И действительно: был послан думный дворянин Кондырев, который ничего сделать не смог и в конечном итоге вместе со своим посольством умер с голода. Нащокин полагал, что вместо посольства следовало послать на Дон против крымского хана сильное войско и тем отвлечь его от Выговского. Так он пытался поступать и в своём крае, но «во всех делах службишки мои только объявлялись, а к совершению не допускались злыми ненавистниками», — жаловался он царю.
…Мира с Россией желал и король Швеции Карл Х (1622—1660), поставленный в затруднительное положение союзом Польши с Данией. В конце апреля 1658 года начался съезд уполномоченных на р. Нарву. Русскую миссию составляли боярин князь П.С.Прозоровский, думный дьяк Ордин-Нащокин, стольник Прончищев и дьяки Дохтуров и Юрьев. Прозоровский первенствовал для вида и для представительства, а сами переговоры Тишайший поручил вести Афанасию Лаврентьевичу. Царь разрешал ему подкупить шведских послов Густава Бьельке и эстляндского губернатора Бенгта Хорна, чтобы выторговать у шведов территории возле Нарвы, Ругодива, а от них свободный проезд до г. Орешка на Неве, г. Кукейнос на Двине и др. На эти цели выделялось около 20 тысяч рублей ефимками и соболями.
Нащокин настаивал на применении или хотя бы демонстрации силы для упрочения позиций посольства на переговорах, но ничего из этого не получилось. Шведы, распознав в нём жёсткого переговорщика и твёрдого защитника русских интересов, попытались устранить его от переговоров. Шведам «помог» воевода князь Хованский, возмущённый, что от него требовали послать войско в расположение посольства под Нарвой. Больше всего задевало князя необходимость подчиняться псковскому «выскочке» — ведь он старше тремя местами даже по сравнению с князем Прозоровским! И Алексею Михайловичу пришлось примирять Хованского с Нащокиным. «За что ты тех ненавидишь, которые государю служат верно?» — писал он Хованскому. — «Тебе бы великого государя указ исполнить с Афанасием помириться, а если не помиришься и станешь Афанасия теснить и бесчестить, то …за непослушанье и за Афанасия… тебе и всему роду твоему быть разорёну».
Переговоры о мире начались в м. Валиесари — между Нарвой и Нейшлотом — и закончились 1 декабря 1658 года заключением перемирия на 3 года с сохранением всех завоеваний России в Ливонии. Это можно было вполне назвать успехом.
Во время триумфа Нащокина случилась беда: за границу сбежал его сын Воин. Сказалось пристрастие отца к польской культуре и языку. Сын получил образование у польских пленных и, наслушавшись о «безбедной» жизни за границей, бросил свой пост в Дмитриеве, где он замещал отца, прихватил с собой большую сумму денег, и явился сначала к королю Польши в Данциге, который отправил его к немецкому императору, а потом во Францию. Недруги Ордина-Нащокина торжествовали, и он попросился в отставку.
Тишайший успокоил своего думного дьяка: Воин-де — человек молодой, «хочет создания Владыки и творения рук его видеть на этом свете, как и птица, которая летает туда и сюда, и, полетав довольно, опять к гнезду своему возвращается». А в тайном наказе царь писал, что сына надо разыскать обязательно и предложить за него выкуп в 5—10 тысяч рублей, а если вернуть его не удастся, то следовало извести его там, «потому что он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями».
Между тем умер шведский король Карл Х, и новый король Карл XI заключил мир с Польшей. Прибалтийский треугольник, в котором Польша, Швеция и Россия воевали друг с другом, перестал существовать, и под ударом оказалась одна Россия. Алексей Михайлович настаивал на немедленном заключении мира со Швецией, но Афанасий Лаврентьевич полагал, что из-за осложнения дел в Малороссии и Белоруссии мир следовало заключать в первую очередь с Польшей. На мир Швеция на наших условиях не пойдёт, что только подхлестнет поляков к новым претензиям. Поэтому он предлагал, направив в Англию умного человека, склонить английского короля Карла II к тому, чтобы тот удержал шведов на достигнутом уже перемирии.
На переговорах с поляками Нащокин предлагал поступиться Полоцком и Витебском, от которых, по его мнению, пользы большой не было, а вот удержать завоёванные лифляндские города с точки зрения торговли с Европой было намного важнее. Он предлагал на переговоры с Польшей назначить боярина князя И. Б. Репнина, которого хорошо знает вся Литва, а в помощники ему дать Алмаза Иванова. Он также просил освободить его от обязанностей переговорщика со шведами, чтобы из ненависти к нему не докучали царю и не разрушили всего дела.
Переговоры с Польшей оказались трудными и долгими. Они начались в Смоленске, и в качестве «умного человека» пришлось ехать не Репнину, а самому Нащокину. Правда, посольство возглавил князь Н. И. Одоевский, вторым следовал князь И. С. Прозоровский, а уж потом Нащокин с Алмазом Ивановым.
Нащокину пришлось отправиться в Польшу и договариваться с королём Яном Казимиром под условием уступки Смоленска и Северских городов и сохранения южной Ливонии. Поляки отвергли эти условия и перенесли военные действия на левый берег Днепра. Когда поляки в Восточной Украине потерпели неудачу, переговоры снова возобновились — сначала в Москве, а потом — в Смоленске. Нащокин предоставил царю записку, содержавшую более 50 статей, в которых ратовал за союз Польши в борьбе против Швеции и Турции, как главных противников славянских народов. В далёкой перспективе Нащокин предполагал освобождение христианских народов — славян, молдаван и валахов от османского ига и союза их с Россией.
Более того, Нащокин считал, что Россия окончательно утвердится в Малороссии только при содействии с Польшей. Он не доверял черкасам, поскольку «они, несмотря на Польшу и Литву, по совету с ханом и шведами, начнут злую войну против Великой России». Царю такие мысли не понравились, он так образно ответил Нащокину: «Собаке (т. е. Польше) не достойно есть и одного куска хлеба православного (т. е. западной Украины): только то не от нас будет, за грехи учинится» и советовал ему вернуться к прежней позиции по Малороссии.
В наказе послам под Смоленск Тишайший настаивал на сохранении границы с поляками по Днепру, за беспрепятственное исповедание православия в западной Украине, за сохранение за собой титулов «Малыя и Белыя России», удержание Полоцка и Динабурга за Россией (Витебском можно было пожертвовать). Наказ был адресован князьям Одоевскому и Долгорукому, а о Нащокине царь сделал в нём только напоминание о том, чтобы с ним ознакомили и Афанасия Лаврентьевича. Царь в угоду родовитым боярам продолжал лавировать между правилами местничества и поддержкой неродовитого Нащокина.
Переговоры о мире в 1666 году в деревне Андрусово уже вёл Афанасий Лаврентьевич, возведённый годом раньше в чин окольничего. Ему ассистировали дворянин Б. И. Нащокин и дьяк Григорий Богданов. К этому времени Воин Нащокин усилиями русских дипломатов, включая посла в Копенгагене Богдана Ивановича Нащокина, вернулся в Москву, и отец, во избежание кривотолков, просил не допускать его под Смоленск. Нащокин писал царю, что от переписки с ним пострадал любимец царя Ф. М. Ртищев (1626—1673) — значит, партия недоброжелателей продолжала действовать.
Андрусовское 13-летнее перемирие было подписано 3 января 1667 года. Завоевания в Литве и Ливонии пришлось уступить полякам, зато за Россией остался Киев (пока на 2 года), воеводство Смоленское, Черниговское и вся Украина по Днепр со Стародубским поветом. Запорожье осталось под общим покровительством России и Польши.
Заслуги Нащокина в заключении Андрусовского договора были признаны и договаривающимися сторонами, и вообще в Европе. Он был облечён в высший сан московской служебной иерархии: по возвращении в Москву он получил чин ближнего боярина и дворецкого, а 15 июля 1667 года приказом Тишайшего стал «царственныя большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель». Наряду с Посольским приказом ему были переданы в управление Смоленский разряд, Малороссийский приказ, чети новгородская, владимирская и галицкая, таможня, кружечный двор. Он получил в подарок Порецкую волость (г. Поречье) с пристанью на р. Каспле, 500 дворов в Костромском уезде и 500 руб. в дополнение к боярскому жалованью.
В 1665—1666 гг. Ордин-Нащокин исполнял обязанности воеводы в Пскове (Хованского в это время из Пскова убрали), совмещая их с перечисленными выше обязанностями в приказах, разрядах и четях. Тишайший считал Псков важным пограничным местом, позволявшим контролировать связи и границу с западным миром. Из-за постойных войн, ведущихся рядом с городом, Псков сильно оскудел и обеднел, иностранные купцы, искусственно поддерживая низкие цены на свои товары (они раздавали деньги бедным псковитянам и заставляли покупать их свои изделия) разорили многих русских купцов.
Нащокин предложил им организовываться в торговые компании, установил вольную продажу вин и нанёс удар по контрабанде немецких вин, а также преобразовал городское правление. Новшества возбудили сопротивление богатеев, но с опорой на «меньших людей» Нащокину удалось ввести в Пскове новые порядки. Примечательно, что когда Нащокина снова отозвали в Москву на дипломатическое поприще, в городе в качестве нового воеводы появился его заклятый враг князь Хованский, и всё вернулось к старому порядку. Удержались только торговые компании.
После воеводства Хованского, при новом воеводе Д. С. Великом-Гагине (Великогагине), Ордин-Нащокин вновь добился своего в Пскове и защитил там некоторые свои преобразования. Зато во внешних связях Афанасий Лаврентьевич добился некоторых успехов: вольная торговля русских и шведских купцов, учреждение торговых дворов в Москве и Стокгольме, свободный проезд шведских и русских дипломатов и свободный проезд в Россию лекарей, мастеровым и служилым людям, а также учреждение почты на Курляндию и Польшу и введение в апреле 1667 года нового торгового устава. Согласно уставу, в Москву и внутренние города России допускались иностранные купцы, обладавшие жалованными грамотами с красной печатью. Ордин-Нащокин принял меры к безопасности проезда купцов с Востока, подготовил посольство в Индию и обратил внимание на Китай и безопасность границы с ним, для чего исходатайствовал многие привилегии для поселившихся на Амуре казаков.
В связи с отречением в 1668 году от престола короля Яна Казимира в Москве возникли планы объединения с Польшей с общим монархом в лице Алексея Михайловича. Ордин-Нащокин возражал против этого плана, указывая на то, что осуществление этого плана станет для России большим неудобством и обузой, поскольку поляки могли потребовать себе Киев, Смоленск, Чернигов и другие города. Некоторое время спустя Тишайший, обнаружив, что в случае соединения корон ему придётся защищать Польшу от нападок Швеции и Австрии, был вынужден признать правоту своего ближнего боярина и от грандиозных планов отказался.
В 1667 году Россия предприняла попытки завязать отношения с Францией и Испанией, и Тишайший послал туда посольства с целью заключения с ними торговых договоров. Стольник Потёмкин и дьяк Румянцев 25 августа 1667 года отплыли из Архангельска с грузов икры на корабле, отправлявшемся в Италию, 4 декабря сошли на берег в Кадисе и вручили в Мадриде королю Карлу II грамоту царя. В ответной грамоте король Испании отдал приказ о свободном приёме русских купцов во всех испанских гаванях и выразил надежду, что аналогичные меры будут приняты и в России в отношении испанских купцов.
В конце июня 1668 года Потёмкин с посольством оказался во Франции. Местные власти не имели из Парижа никаких приказаний, и с приёмом русских возникли проблемы. Потёмкин рассчитывал на то, что его посольство, в соответствии с русскими правилами в отношении иностранных посольств, будет содержаться за счёт французской казны, но этого не случилось. Содержание посольства оказалось слишком дорогим, а местные французские власти обложили товары и имущество посольства пошлинами. По прибытии в Бордо посольской свите и Потёмкину с Румянцевым пришлось жить в палатках.
Наконец из Парижа пришли указания о достойном приёме посольства, и 25 августа Потёмкин был принят в Сен-Жермене королём Франции Людовиком XIV. Приём был оказан по всем правилам этикета: дружественный, торжественный и праздничный. В переговорах участвовали важные сановники короля, французы соглашались не только на торговые связи, но вообще предложили Потёмкину заключить мирный договор с Россией на «вечные времена». Король разрешал московским купцам жить в стране и свободно торговать во Франции, построить свой двор, иметь для арбитража своего судью и отправлять православные обряды. В ответ Людовик XIV просил учредить такие же правила для французских купцов в Москве и спросил, разрешит ли царь беспошлинно торговать с Персией.
Потёмкин конечно же не мог дать письменные гарантии на эти условия, но предложил французским купцам для свободной торговли — кроме вина и табака — использовать Архангельск. Посланники царя были довольны оказанным приёмом — Потёмкину при прощальной аудиенции разрешили даже стоять без шляпы на голове. Была составлена обширная культурная программа, которая привела русских в неописуемый восторг. Французы «уважили» и употребили титулы русского царя, но у русских послов того времени ушки были на макушке! Потёмкин сразу усмотрел «недобор» в титулах, и отказался от участия в прощальном обеде до тех пор, пока всё будет сделано, как следовало. Маршал де-Бельфон не устоял против натиска русского посла и устранил препятствие, за что Потёмкин подарил ему соболью шапку.
Политика установления связей с Западом как нельзя больше соответствовала намерениям Ордин-Нащокина. Правда, французы без получения жалованной грамоты так и не приехали в Архангельск. В 1670 году царь отправил Людовику грамоту с предложением посредничать при заключении вечного мира с Польшей наряду с императором Священной Римской империи, королей Швеции, Дании и Бранденбургским курфюрстом.
Иконников пишет, что Нащокин считался в это время покровителем англичан, между тем как его враг Б. М. Хитрово считал своими друзьями голландцев. Делая уступки англичанам, Афанасий Лаврентьевич не переходил грани соблюдения интересов русской державы. Просьба посла Карла II, графа Чарльза Карлейля о возвращении прежних привилегий, упразднённых во время правления Кромвеля, в 1664 году, удовлетворена не была. Получил в 1667 году отказ и посол Гебдон, потребовавший удаления голландских купцов из России и возвращения привилегий на монополию английским купцам. Оберегатель посольских дел ответил ему: «Ныне в Московском государстве торговые статьи учинены великим рассмотрением, чтобы торговля происходила без ссор и обиды, прежним компаниям быть не годится. Потому что от них больше ссоры, чем дружбы».
Когда турки напали на Польшу, Ордин-Нащокин послал в 1673 году в Лондон переводчика посольского приказа Андрея Виниуса, чтобы передать Карлу II приглашение присоединиться к союзу христианских государей против Османской Порты. Лондон ответил, что он и так находится в состоянии войны с (христианской) Голландией и к тому же имеет сильный торговый интерес в (нехристианской) Турции. Наплевать было англичанам на христианские ценности — главное денежки и торговля. А. Виниус не нашёл ничего лучше, чем объяснить отказ короля особенностями политического устройства Англии. Без решения «нижнего дома» (парламента) и «вышнего дома» (палаты пэров), писал он в отчёте Ордин-Нащокину, король-де «не может в великих делах никакого совершенства учинить».
Из Лондона Виниус отправился в Париж и Мадрид.
Откликнулись на призыв Москвы в Ватикане, увидев в России значительную силу, способную противостоять османам и спасти от катастрофы Польшу. К этому времени римские папы умерили свой пыл в отношении «варварской Московии» и признали за царём царский титул. С паршивой овцы хоть шерсти клок!
За событиями в Европе Посольский приказ внимательно следил не только с помощью резидентов (первый такой резидент появился в 1673 году в Варшаве, им стал стольник В. М. Тяпкин), но и с помощью вестовых писем и курантов, т. е. газет. Куранты писались на листах склеенной бумаги и достигали длины нескольких сажен. При Алексее Михайловиче выписывалось около 20 курантов, в составе Посольского приказа состояло до 50 переводчиков и 70 толмачей, владевших наинужнейшими европейскими и восточными языками. Конечно, куранты и вестовые письма не всегда попадали вовремя в Москву, и наши дипломаты частенько попадали впросак, адресуясь за границей к персонам, которые «давно помре».
Положение «ближнего боярина» оставалось неустойчивым. Опасность Афанасию Лаврентьевичу грозила и от родовитой аристократии, каким был, к примеру, умный и хитрый Б. М. Хитрово, и от «саботажников», окопавшихся в приказах. При каждом удобном случае они пытались спровадить Ордин-Нащокина куда-нибудь подальше из Москвы — то в Андрусов, то в Митаву, Псков или Смоленск, благо дел на дипломатическом фронте всегда хватало. В каждую его отлучку враги что-нибудь придумывали, чтобы насолить ему почувствительней, а потом обвинить в ошибках и просчётах. Ордин-Нащокин укорял царя за попущения к его врагам: «Ты меня вывел, так стыдно тебе меня не поддерживать, делать не по-моему, давать радость врагам моим…»
Богдан Матвеевич Хитрово (1615—1680) воспитывался в детстве вместе с Алексеем Михайловичем, жил в Польше и усвоил там «свободные» нравы и пристрастие к женскому полу. Он заведовал царскими оружием и сокровищами, был приверженцем голландцев и, по мнению Иконникова, скорее был соперником, чем врагом Нащокина. За влияние на Тишайшего его прозвали шепчущим любимцем. Более опасным противником Нащокина был тесть царя И. Д. Милославский.
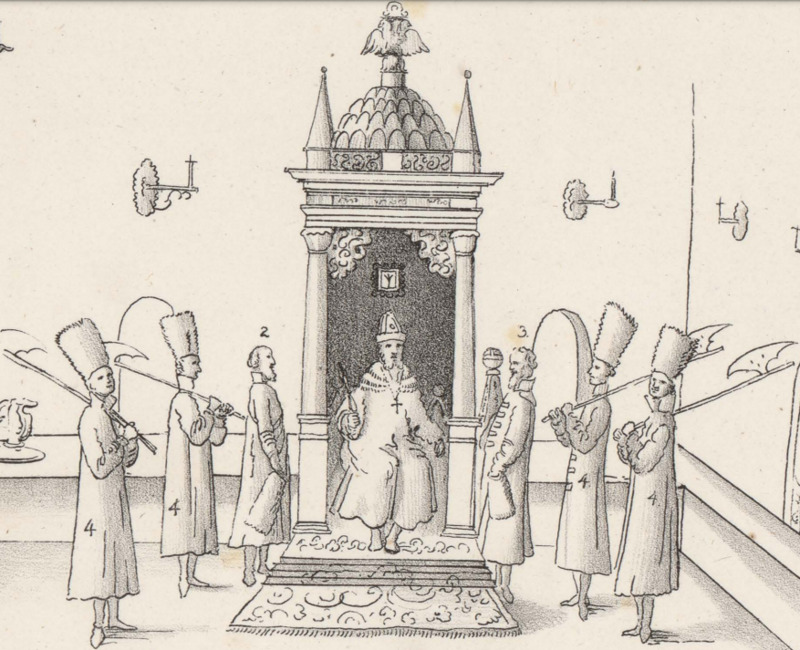
В Посольском приказе, где значительной силой обладали дьяки братья Щелкаловы, Власьев, Грамотин, Алмаз Иванов и др., Ордин-Нащокин мог опираться на дьяков Дохтурова и Голосова. Афанасий Лаврентьевич вёл линию на уменьшение власти дьяков и добился того, что в думе им не разрешали сидеть в присутствии государя. Придавая важное значение Посольскому приказу, Нащокин считал недостойным для дьяков приказа пьянствовать и бражничать и говорить непотребные речи с иностранцами, о чём писал Тишайшему. Естественно, такое отношение к себе дьяки не могли сносить молча и, как могли, вставляли ему палки в колёса. В частности, особенно выделялся среди них И. А. Желябужский, опытный как дипломат, но высокомерный и грубый в обращении с людьми, в том числе и с Нащокиным.
1671 год может считаться началом постепенного прекращения карьеры Ордин-Нащокина. Ещё в январе и феврале он упоминается в качестве гостей на свадьбе Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной и на приёме бухарского посла Муллофора, но уже обозначилась на небосводе звезда А. С. Матвеева, нового советника царя, и Ордин-Нащокин покидает должность главы Посольского приказа, отказывается принять на себя посольство для переговоров с поляками и уступает это место окольничему В. С. Волынскому.
В 1672 году, сохранив за собой звание ближнего боярина, он удалился на свою родину в Крыпецкий монастырь Иоанна Богослова, что в 12 верстах от Пскова, где постригся, приняв имя Антония. Опыт его, знание и ум ценили ещё в Москве и в 1679 году вызвали для консультаций по поводу прибытия польского посольства. Вплоть до своей смерти монах Антоний получал от Тишайшего и его преемника Фёдора Алексееича (1676—1682) письма с просьбой дать совет по тому или другому делу.
Антоний умер в 1680 году.
Оставшиеся после него бумаги забрал приехавший из Москвы дьяк и отвёз их на хранение в Посольский приказ. Деятельность Нащокина в качестве главы русской дипломатии середины XVII века высоко ценили в Европе. Об атмосфере, созданной Нащокиным в Посольском приказе, писал бывший его подьячий Г. К. Котошихин, перебежавший потом в Швецию и написавший там труд о политическом устройстве России. При Нащокине вполне определился поворот России к Западу, и прежнее влияние греков на культуру, религию и политику окончилось.
Кроме политического наследства, Афанасий Лаврентьевич оставил по себе память и в других областях, например, с его именем связано распространение и улучшение садоводства в России.
Сын Воин Афанасьевич получил звание стольника, занимал должность воеводы в Галиче и умер бездетным. Род Ордин-Нащокина прекратил своё существование к концу XVIII века. И чем ближе подступала эпоха Петра I, тем уверенней двигалась страна к восприятию достижений науки, образования и культуры Запада.
Глава 6. Дело князя Черкасского
Александр Андреевич Черкасский (? -1749), участник войны со шведами, действительный статский советник, по проискам Бирона в 1732 году был отправлен в почётную ссылку губернатором Смоленской губернии. По доносу Ф. И. Красного-Милашевича, бывшего камер-пажа герцогини Екатерины Ивановны Мекленбургской, в 1734 году был обвинен в государственной измене в пользу голштинского принца Карла-Фридриха (1700—1739), зятя Петра I и осуждён к смертной казни, но был помилован Анной Иоанновной и выслан в Якутский уезд. В 1739 году в связи с осуждением оклеветавшего его Красного-Милашевича был освобождён из ссылки, получил звание генерал-поручика и ранг тайного советника и умер в 1749 году.
Взойдя на трон, Анна Иоанновна всё время помнила, как верховники пытались лишить её самодержавных прав и сделать из неё фигуру чисто представительную. Поэтому донос на смоленского губернатора А. А. Черкасского, поступивший из Гамбурга, от резидента А. П. Бестужева-Рюмина, сильно встревожил императрицу.
Доносчиком оказался Ф. И. Красный-Милашевич, посланный А. А. Черкасским с двумя письмами к герцогу Голштинии Карлу-Фридриху. Милашевич из Голштинии направился в Гамбург и сделал перед Бестужевым-Рюминым лживый донос на Черкасского.
Доносчик сообщил Бестужеву, что «смоленские тузы» пьют за здоровье голштинского принца и называют себя его слугами, что в Смоленске создано тайное общество, а смоленский генерал Александр Потёмкин поддерживает переписку со Станиславом Лещинским, давним врагом России. В доказательство этих сведений Милашевич предъявил два письма Черкасского, с которыми он Милашевича отправил в Голштинию. Вспомнил он и слова Черкасского о том, что «овладели черти святым местом, а именно немцы, за то и хлеб не родится».
За дело взялся начальник Тайной розыскной канцелярии А. И. Ушаков (1672—1747). Он отправился в Смоленск с большим воинским отрядом и немедленно арестовал князя Черкасского, Потёмкина и др. По наводке Милашевича Ушаков арестовал также Потоцкого, старосту г. Бельска, где свили своё гнездо иезуиты и агенты Лещинского.
Посмотрим внимательней на личность доносчика и обстоятельства доноса.
Пажем у герцогини Екатерины Ивановны Красный-Милашевич пробыл недолго — его за какие-то провинности прогнали, но за это время он сумел втереться в доверие к любвеообильной царевне Елизавете Петровне и посредничал в её контактах с Потоцким, нынешним старостой Бельска. Кроме того, его подозревали в недозволенных делах с купцом Баро, услугами которого пользовался и упомянутый Потоцкий.
Разозлённый Милашевич подался в деревню к своему отцу на свою родину Смоленщину. Отцу о своих невзгодах в Петербурге он умолчал и решил за протекцией обратиться к губернатору, родственнику кабинет-министра Анны Иоанновны А. М. Черкасского (1680—1742) и хорошему знакомому голштинского герцога. Губернатор, пострадав от происков Бирона, тоже считал себя обиженным, так что Милашевич на этой почве легко с ним сошёлся.
Беседы двух обиженных вращались вокруг ненавистного им Бирона, о правительстве Анны Иоанновны, оказывавшем благоволение ко всяким проходимцам и преследовавшем людей достойных. Потом перешли к обсуждению выгод республиканского правления, например, как в Польше, начали строить прогнозы в отношении будущего России после смерти Анны Иоанновны. Обоим пришёл на ум внук Петра I и сын Карла-Фридриха как претендент на освободившийся трон. Черкасский рассказал Милашевичу о своих встречах с Карлом-Фридрихом, о том, что герцог приглашал его к себе на службу в Голштинию, а потом предложил Фёдору Ивановичу воспользоваться этой возможностью.
Черкасский сказал, что он бы и сам уехал в Голштинию, да мешают семейные обстоятельства. Но он смотрел на Голштинию более широко, нежели как на возможность получить там место для службы себе или Милашевичу. Он желал подслужиться герцогу, чтобы пользоваться его милостью и протекцией в будущем, в лучшие времена. Для этого он предложил сообщить Карлу-Фридриху, что в России, кроме них двоих, есть целая толпа дворян, недовольных правлением Бирона и готовых послужить ему. Для правдоподобия можно сочинить подложное письмо от какого-нибудь важного лица, например, генерала Потёмкина, и собрать несколько подписей от других дворян. Можно подать надежду на содействие Малороссии, и дело будет делано.
Создаётся впечатление, что подобные идеи пришли в голову Черкасского не без влияния винных паров — других объяснений, кажется, трудно найти. (Б.Г.) Сам он потом скажет на следствии, что «действовал без умыслу и в затмении», но отчего образовалось затмение, он не пояснил. Как бы то ни было, он сочинил от имени Потёмкина подложную эпистулу, в которой от имени генерала заверял Карла-Фридриха в том, что и он, и смоленские дворяне пребывают ему в верности и дают в этом присягу. Имена этих дворян Черкасский попросил Милашевича взять …из переписки своего отца.
От этих разговоров у Фёдора голова пошла кругом. Перспектива поправить своё положение была слишком заманчива. Рассказать обо всём отцу он не решился, и сказал ему, что едет за границу учиться. Отец резонно возразил сыну, что «не с нашей сумой ездить в чужие края», но сынок успокоил его, что он найдёт для этого средства, имея в виду деньги Черкасского. После этого Милашевич отправился к Черкасскому, чтобы получить деньги на путешествие и дополнительные инструкции о том, как вести себя перед герцогом Голштинии, например, не забыть поцеловать ему руку при представлении.
Выправить Милашевичу паспорт для следования за границу через Петербург Черкасский не решился: боялся, что тот раздумает, отступится от обещания и донесёт. Решили пробираться в Голштинию через Польшу, минуя пограничную стражу. Отъезд был назначен на время отсутствия в Смоленске Ивана Михайловича Красного-Милашевича. Отец по тогдашнему закону должен был о выезде сына за границу сделать в канцелярию губернатора заявление, поэтому решили создать ему ситуацию неведения о «самовольном» отъезде сына и освободить его от наказания.
И тут решимость покинула Фёдора Ивановича, и он обо всём рассказал отцу. Известие это, мягко говоря, привело Ивана Михайовича в состояние шока, и он лишь с большим трудом согласился в случае чего сообщить о «пропаже» сына. Сделать донос он не захотел, не желая ставить сына под удар. Сошлись на том, чтобы подговорить начальника пограничного форпоста (Смоленская губерния граничила тогда с Польшей) негласно пропустить Фёдора Ивановича на несколько дней за границу якобы для продажи некоторых продуктов имения.
Ночью Милашевич-младший с помощью трёх своих крестьян пересёк русско-польскую границу, а спустя несколько дней Милашевич-старший сделал в канцелярии губернатора заявку о самовольном отъезде сына за границу. Естественно, Черкасский и не думал наказывать Ивана Михайловича и положил полученную от него бумагу под сукно.
В Польше Милашевич задержался на целых 7 месяцев. По некоторым данным, Фёдор Иванович то ли затеял там жениться, то ли принять католичество, то ли то и другое. Во всяком случае, если верить его показаниям, он, прибыв в Киль, главный город Голштинии, герцога там не застал, но зато встретил там дочь небезызвестного Ф. С. Орлика (1672—1742), бывшего писаря гетмана Мазепы. Дочь наговорила ему «десять бочек арестантов» о том, что она вместе с другой своей сестрой, женой голштинского генерала, пользуется у Карла-Фридриха большим фавором, и что Станислав Лещинский обещал сделать её отца гетманом Малороссии.
В Киле Милашевич встретил также русского подданного Вельяминова, который посоветовал ему письменно обратиться к герцогу, находившемуся в г. Нойштадте, после чего он получил у него аудиенцию. Руку герцогу он поцеловал, сообщил, что прислан Черкасским, но о проекте Александра Андреевича не обмолвился ни словом. Об аудиенции у Карла-Фридриха Милашевич решил письменно известить Черкасского, но письмо послал с каким-то отъезжающим из Голштинии русским на адрес отца. Иван Михайлович доложил о письме Черкасскому и при свидетелях стал утверждать ему о своей невиновности.
Между тем Милашевич-младший одумался и решил-таки письма Черкасского передать герцогу. Но по дороге в Нойштадт эти письма потерял и поначалу растерялся, но голь на выдумки хитра, и он по памяти восстановил их текст, изготовил новые письма и сочинил даже инструкцию, которую якобы подготовил для него Черкасский. (На последовавших потом допросах у Ушакова Александр Андреевич признал их за свои). Но этого нашему герою показалось мало, и он, вспомнив рассказ дочери Орлика о польских и малороссийских делах, написал от имени Потёмкина верноподданное письмо в адрес Станислава Лещинского, чтобы ещё крепче запутать генерала в заговоре. Сей поступок Милашевич объяснил потом своей простотой и несовершеннолетием.
Герцога в Нойштадте не оказалось на месте, и наш вертопрах снова оказывается в затруднительном положении. Однако он находит выход в том, чтобы сделать донос на своего патрона, смоленского губернатора, и попытаться представить себя во всём невиновным. С такими мыслями он отправляется в Гамбург и в сентябре 1733 года предстаёт перед резидентом А. П. Бестужевым-Рюминым. Он заявляет, что всё затеянное Черкасским было «против его ума», и что губернатор охмурил его и обманом втянул в заговор неопытного юношу.
Бестужев привёз Милашевича в Петербург, а оттуда он уже под надзором Ушакова был доставлен в Смоленск. Там началось следствие, оконченное уже в Петербурге комиссией из 6 человек: Г. Головкина, А. Остермана, А. Ушакова, П. Шафирова, А. Бестужева-Рюмина и Бахметева.
Уже на первых допросах доносчик понял, что поддерживать линию на обвинение Черкасского стало сложно — ведь вещдоки, т. е. письма, были написаны им самим. Тогда он, ссылаясь на свою глупость и несовершеннолетие, стал уводить следователей на дело Потоцкого и бельских иезуитов, пытавшихся вырвать Смоленщину из состава России и присоединить её к Польше. В ходе следствия «несовершеннолетний» доносчик пять раз менял свои показания, из-за которых пришлось один раз применить пытки по отношению к Черкасскому, но тот всё либо отрицал, ибо признавался в своей вине, так что ничего нового комиссия добыть не смогла. Следствие забуксовало и зашло в тупик.
Впрочем, за Черкасским числились другие, не менее важные проступки, за которые полагалась смертная казнь: оскорбление императрицы, приверженность к республиканскому строю, критика Бирона, правительства и вмешательства России в польские дела, а также симпатии к голштинскому герцогу. Так что комиссия вынесла ему смертный приговор, а доносчика определила в ссылку в Сибирь. За недонесение высказываний и действий губернатора в ссылку были отправлены несколько других лиц. Генерала Потёмкина отправили служить в Сибирь.
Через полгода наказание для виновных смягчили: Черкасского отправили в ссылку в Жиганскую слободу под строгий караул, а отца и сына Красных-Мелашевичей определили на жительство в Ярославскую губернию.
Историк С. М. Соловьёв излагает совершенно иную версию дела Черкасского. Он считает его совершенно невиновным в заговоре или критике правительства и оклеветанным Милашевичем, которого губернатор под благовидным предлогом решил «сплавить» подальше от Смоленска как соперника в любовных делах. Автор статьи А. Курепин настаивает на изложенной выше версии, поскольку фактов, противоречащих ей, пока не предъявлено.
К статье А. Курепина прилагаются документы переписки императрицы с членами упомянутой комиссии и между её членами, из которых видно, что Анна Иоанновна была посвящена во все детали дела и свободно оперировала именами всех его многочисленных участников.
Глава 7. Дмитрий Васильевич Волков (1718—1785)
Честь первого исследователя, заинтересовавшегося Волковым, принадлежит секретарю саксонского посольства при дворе Екатерины II Георгу-Адольфу Вильгельму фон Гельбигу (1787—1795). Это ему мы обязаны распространению в Европе версии о т. н. «Потёмкинских деревнях», которую он, не будучи участником знаменитого путешествия Екатерины на юг России, основывал на слухах и недостоверных рассказах. Простим это человеку, искренно увлекавшемуся историей России, тем более что к своим запискам о Волкове он относился достаточно серьёзно и использовал в них достоверные документальные сведения.
Дмитрий Волков, пишет Гельбиг, русский человек простого происхождения, «случайным образом был так счастлив, что получил весьма рачительное воспитание» — какое и где, он не указывает. Некоторое время он трудился в одном из Приказов, а потом, оказавшись человеком весьма дельным, был взят секретарём в т. н. Конференцию (совет), учреждённую Елизаветой Петровной во время Семилетней войны. Он отвечал за составление и обработку различных секретных документов, которые подавались потом на доклад императрице и в которых «он поддерживал её ненависть к Пруссии».
Будучи, вероятно, личностью азартной, он увлёкся карточной игрой, наделал долгов и неожиданно для службы и семейства исчез из поля зрения. Поскольку он ведал выдачей паспортов, то возникли предположения, что он сделал себе паспорт и перебежал вместе со своими секретами к Фридриху II. Его начали искать и обратились за сведениями к дружественным иностранным послам в Берлине. И тогда Волков явился из своего небытия, потому что не захотел, чтобы его считали изменником. На радостях долги его простили, и он снова стал служить государыне Елизавете.
Некоторое время спустя он поссорился с канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым и разоблачил его план по устранению от престола в. к. Петра Фёдоровича, вследствие чего канцлер был отправлен в опалу, а Волков стал значительным лицом в российском государстве. Естественно, Пётр III вспомнил об услуге Волкова и сделал его одним из важных своих советников. Когда вокруг Петра стали сгущаться тучи, Волков рассказал ему о грозящей опасности, которой тот, впрочем, пренебрёг и поплатился за это и троном, и, в конечном счёте, жизнью.

При Екатерине II Волков находился несколько дней под арестом, но потом был освобождён и получил место губернатора в Оренбурге (плодом его пребывания там стала его географо-этнографическая записка об Оренбургском крае — прим. Автора). Через некоторое время с помощью своих друзей Волков вернулся в Петербург, и императрица сделала его сначала полицмейстером, а потом, наградив чином действительного тайного советника, губернатором столицы. Во время чумы в Москве его действиями влияние эпидемии было существенно ослаблено. Прямо из Москвы его в 1772 году Екатерина послала в Фокшаны (вероятно, для ведения мирных переговоров с турками). Волков говорил на нескольких иностранных языках, хотя никогда не выезжал из России. Он хорошо разбирался в политике и знал цену того или иного европейского государства. У всех — у друзей, сослуживцев и родственников — он оставил по себе самую благодарную память.
«Русская старина» придерживается в отношении Волкова более строгого мнения, и в представлении журнала Дмитрий Васильевич является не таким уж пушистым и безвинным. Например, журнал приводит такой порок Волкова, как взяточничество, о чём свидетельствует жалоба московского купца Михаила Евреинова, поданная Екатерине II в августе 1762 года (когда взяточник по делу Петра III сидел ещё в тюрьме — пим. Автора). Сидя в тюрьме, Волков в письмах к графу Г. Г. Орлову стал чернить своего бывшего патрона, (что было не так уж трудно сделать ввиду известных недостатков Петра III — прим. Автора). Впрочем, редакция журнала отнеслась к этому снисходительно — ведь Дмитрий Васильевич был «совершеннейшим продуктом той среды, в которой он жил: слуга силы и власти, ловко отступающий от своих патронов» ради своей личной выгоды.
Журнал, ссылаясь на прямые указания в записке Штелина, отвергает причастность Волкова к составлению манифеста о дворянской вольности от 18 февраля 1762 года и пришёл к выводу, что автором манифеста был генерал-прокурор А. И. Глебов.
Затеянная в 1867 году «Русской стариной» публицистическая активность вокруг Петра III и Волкова шесть лет спустя принесла неожиданные плоды — в редакцию написала правнучка Дмитрия Васильевича, супруга генерала Рудаковского Софья Александровна и сообщила, наконец, некоторые подробности о происхождении Волкова, основанные на рассказах и документах, представленных её тёткой. Тётка передала Рудаковской также подлинные письма Екатерины II к Д. В. Волкову, одну рукопись Дмитрия Васильевича и его портрет, снятый за границей.
Итак, от С. А. Рудаковой нам теперь известно, что наш герой происходил из довольно знатной и зажиточной семьи столбового дворянина Василия Онуфриевича Волкова, помещика Московской губернии, владелец 800 крепостных душ в д. Колчугино Московского и в д. Воскресенское Рузского уезда.
У Василия Онуфриевича были только два сына: Дмитрий и Онуфрий,
Дмитрий Васильевич рождён и крещён в д. Воскресенское, там же погребены его отец и мать. Василий Онуфриевич был другом А. П. Бестужева-Рюмина, к нему он и определил сына Дмитрия. Онуфрий служил в Москве, где впоследствии построил себе дом. Отец дал им хорошее образование, обучив их нескольким иностранным языкам, которыми Дмитрий Васильевич и в самом деле хорошо владел.
Рудаковская пишет, что Волков разошёлся со своим патроном, канцлером Бестужиным, не из предательства, а по различию убеждений. Она решительно возражает против версии журнала об авторстве манифеста о вольности дворянства Глебова. В пользу доказательства авторства Волкова она указывает на то, что в его бумагах сохранился черновой вариант этого документа. Конечно, прадед выполнял при этом волю Петра III, но никому другому он не мог доверить это важное дело, кроме самого опытного и близкого к нему человека. А таким человеком был его личный секретарь Д. В. Волков.
То, что в письмах к графу Г. Г. Орлову от 10 и 11 июля 1762 года Волков, перечисляя произведения своего пера во время Правления Петра III, не упомянул манифест о вольности дворянства, Рудаковская объясняет проявлением скромности прадеда (сомнительно, чтобы расхваставшийся перед Орловым опальный царедворец из скромности не упомянул самый важный документ правления Петра III — прим. Автора). Против ссылки на записку Штелина Софья Александровна выдвигает положительные свидетельства князей М. М. Щербатова и П. В. Долгорукова.
Далее Рудаковская опровергает сведения о том, что Екатерина II в 1763 году пожаловала ему большое имение в Лифляндии, а в 1772 году — 21 тысячу десятин и 1500 крепостных душ в Витебской губернии. Аналогично она возражает против наклеивания на прадеда ярлыка карточного игрока. Эти обвинения происходили от враждебных к Волкову лиц. Он играл в карты, но не проиграл же он ни одного из свих имений, говорит Рудаковская. Да и взятки ему были ни к чему, потому что он и так был хорошо обеспечен.
Далее Софья Александровна сообщает подробные сведения о семействе Д. В. Волкова. Он был женат на Прасковье Борисовне Никитиной, у них было три сына и три дочери. У брата Онуфрия было 5 дочерей, оставшиеся все девицами и погребённые в Донском монастыре. Родовое и жалованное имения поступили в раздел к его детям. Д. В. Волков подал в отставку в 1780 году, последние 2 года прожил в своём имении в с. Крест Витебской губернии, где и был погребен в 1785 году.
Бумаги Д. В. Волкова, хранившиеся в с. Крест, пропали, в том числе и черновик манифеста о вольности дворянства с пометками автора. Судя по сведениям Рудаковой, бумаги на свои нужды извёл какой-то приказчик.
Копия с миниатюрного портрета Волкова помещена «Русской стариной» при настоящем очерке. Письма Волкова к графу Г. Г. Орлову и Екатерины II к Волкову напечатаны в «Русской старине» том XI. Вместе с журналом продолжим наше повествование о Д. В. Волкове.
Итак, обратимся к двум пространным письмам нашего героя к фавориту Екатерины графу Орлову, написанные 10 и 11 июля 1762 года.
В первом Дмитрий Васильевич пишет, что угрызениями совести не страдает, и ни от кого никакой милости или прощения не просит и уповает только на милосердие императрицы. Злопыхательство врагов заставило его обратиться к Орлову и поведать ему свою «линию жизни».
В последние часы жизни Елизавета Петровна приказала ему писать документ о присяге наследнику, но он якобы отказался делать это ещё при живой императрице и указал на И. И. Шувалова и А. П. Мельгунова как на возможных исполнителей воли Елизаветы. Те в свою очередь стали увещевать Волкова согласиться написать требуемый документ, поскольку-де писать больше некому было, но Дмитрий Васильевич стоял на своём. В результате после смерти Елизаветы появился «нескладный манифест Глебова».
В следующую ночь, пишет Волков, он «сам собою» отправил указы в войска заграничной армии, предупреждая посылку туда всякого «здора». А потом поехал к канцлеру Воронцову и попросился в отставку. И сидел дома без всякого дела целый месяц. «Как попался я вдруг в тайные секретари, того и теперь не знаю», — утверждает он Орлову. Он сразу осознал «важность и склизость» этой должности и решил не проявлять в ней инициативы, «валить через пень колоду» и исполнять только, что велят.
Одним из первых «пней» стал указ командующему русским корпусом графу Чернышеву отвести войска за Вислу — исполнил, что велел Пётр III. Пока в Россию не приехал прусский посол Гольц, Волков якобы осмелел и работал вполне самостоятельно. Положение его осложнилось после прибытия Гольца и его секретаря Штебена, которые стали обвинять Волкова в контактах с австрийским и французским послами. Волкову удалось оправдаться и он продолжал оставаться в прежней должности, по возможности затягивая приготовления к войне с Данией и освобождение занятых русской армией Восточной Пруссии и Померании.
Себе в заслугу Волков ставил авторство трёх указов: о секуляризации монастырских вотчин, ликвидации тайной канцелярии и о делах коммерческих. Трудился он также и над делами по укреплению русского флота, об учреждении государственного банка. Он отвергал слухи о своём богатстве, утверждая, что в самом деле является самым нищим человеком с долгами более 15 тысяч рублей и давно бы «положил зубы на полку», если бы не карточный выигрыш на сумму 8 тысяч рублей. Нои тех денег он не видит, поскольку они все арестованы.
В письме от 11 июля 1762 года Волков считает ложью сведения о том, что он сообщал в. к. Петру Фёдоровичу секретные сведения, которыми он владел как секретарь Конференции. Он утверждает, что в своё время вместе с канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым был одного мнения, что оставлять Россию на руки великому князю было бы большой катастрофой, и не хвалили сумасбродство Петра, когда он стал при нём личным секретарём.
То ли письма к графу Орлову, то ли другие какие обстоятельства помогли Волкову оправдаться в глазах новой государыни, но результат был налицо: он был снова призван к государственным делам и в должности вице-губернатора отправлен со специальным заданием в Оренбург. Ему было предложено представить Екатерине «обстоятельное тамошних дел описание в рассуждение Башкирцов и Киргизского народа». Писать он должен был на имя графа Г. Г. Орлова, кабинет-министра и секретаря императрицы А. В. Олсуфьева (1721—1784) или И. П. Елагина с пометкой на конвертах «в собственные её императорского величества руки».
В январе 1763 года, убедившись в том, что полученное задание ему оказалось не под силу и не желая быть мальчиком для битья, Дмитрий Васильевич, ссылаясь на слабое здоровье, попросился в отставку, но Екатерина отставку не приняла, просила остаться и пытаться выполнить её поручение, а также по возможности установить торговые отношения с хивинцами и бухарцами. При необходимости, увещевала она его, он может рассчитывать на пост губернатора, который пока занимал д. т. с. Давыдов.
Волков губернаторским местом не соблазнился и продолжал настаивать на своей отставке. Во исполнение приказа императрицы он направил ей свои соображения о «киргизах и башкирах», в которых высказывал мысль о мирном завоевании этих народов путём взятия у их вождей аманатов и постепенного приобщения их к благам цивилизации. Путь, по которому, к примеру, пошли испанцы при покорении Америки, Волков считал чуждым христианству и вообще русскому человеку. Первые попытки, предпринятые Петром Великим пробить торговые пути в Среднюю Азию и в Индию, следует возобновить с новой силой, равно как и попытки поставить препоны распространению в Сибири китайского влияния.
Записку Екатерина прочитала с большим вниманием и одобрением, но расценила её только как некоторое приближение к тому, что она от не ожидала — к генеральному описанию Оренбургского края. Она нацеливала его на установление торговых связей с Хивой и Бухарой и проникновение русского купечества в далёкую Индию. Она просила его также сообщить свои мысли об укреплении границы Российской империи и строительстве крепостей.
Долго задерживаться в Оренбурге Волкову не пришлось: нетерпеливая императрица отозвала его в Петербург уже с губернаторской должности и в 1764 году назначила президентом Мануфактур-коллегии и с тех пор находилась с ним в постоянной переписке.
Глава 8. Дипломат от Бога
Яков Иванович Булгаков родился 15 октября 1743 года и происходил из старинной дворянской семьи. Дьяки и воеводы Булгаковы довольно часто встречаются в летописях.
Отец его Иван Михайлович занимал важную должность секретаря в Преображенском приказе, а дом его, когда-то принадлежавший железному заводчику Миллеру, находился в Немецкой слободе. Начальник Приказа князь-кесарь Фёдор Юрьевич Ромодановский по заведенному порядку производил Петра I в чины и звания, а Иван Михайлович выдавал царю полковое жалованье. Булгаков уважал просвещение и имел богатую по тем временам библиотеку. Последние годы он провёл в Москве, уважаемый за свой ум и житейскую опытность. Московские градоначальники обращались к нему за советом.
Молодой Булгаков в 1756 году поступил в гимназию при Московском университете, а в 1759 году, на торжественном собрании университета, произнёс речь, в которой просил профессора Шадена о зачислении в университет студентом. Вместе с ним в университет были зачислены Ипполит Богданович, Сергей Домашнев, Аркадий Морков, Денис Фонвизин и Григорий Потёмкин. В 1761 году Яков Булгаков вышел из университета, «усвоив себе благородный образ мыслей, любовь к труду и любовь к просвещению», — пишет Бартенев.
Если вспомнить, замечает Пётр Иванович, что в 1767 году часть дворян, призванная Екатериной для составления проекта нового уложения, не знала грамоты, то можно себе представить, какой ценный «кадр» представлял 18-летний Булгаков для государственной администрации. Поэтому он без всяких проволочек и оговорок был принят в Коллегию иностранных дел, которой заведовал Н. И. Панин, поощрявший талантливых людей. Уже в конце декабря 1761 года Булгаков был послан в Варшаву курьером, чтобы сообщить о кончине императрицы Елизаветы Петровны и вступлении на престол Петра III. А через полгода курьер Булгаков выехал в Вену, чтобы обрадовать австрийцев восшествием на престол Екатерины II.
Через 2 года Яков Иванович назначается секретарём посольства России в Варшаве, где он за время службы был правой рукой четырёх послов: Н. В. Репнина, М. Н. Волхонского, Каспара Сальдерна и Отто Стакельберга. Несмотря на различие характеров послов, он сумел поладить со всеми, и особенно был дружен с первым из них. Якову Ивановичу повезло, что в Петербурге у него в КИД оказался «деятельный предстатель» в лице университетского товарища Дениса Фонвизина, пользовавшегося, в свою очередь, поддержкой Н. И. Панина.
Булгаков находился в постоянной переписке с Фонвизиным.
13 сентября 1773 года Денис Иванович писал в Варшаву, что он хорошо представляет положение, в котором оказался тогда Булгаков, и что он уже задействовал нужных лиц, чтобы помочь товарищу, но, к сожалению, сделать пока ничего нельзя из-за предстоящей свадьбы в. к. Павла Петровича, которой Панин как воспитатель наследника отдаёт всё своё служебное время: «Пётр Васильевич Бакунин употребил всё возможное к поправлению состояния вашего. Неужели его заступление, которому помогу и я ревностнейшим образом, будет без успеха? Сего я никак не ожидаю, тем более что граф Никита Иванович сам вас весьма уважает».
Бартенев считает, что речь в данном случае шла о просьбе Булгакова назначить его посланником в Константинополь, но это предположение маловероятно: Булгаков только что начал свою дипломатическую карьеру и, будучи секретарём миссии в Варшаве, вряд ли помышлял об этом посте. Ему просто хотелось попасть в Константинополь хоть на какую должность.
Год спустя, 9 сентября 1774 года, Фонвизин сообщает Булгакову, что посланником в Константинополь был назначен А. С. Стахеев (правильно «Стахиев») (1724—1794), который служил в Стокгольме, когда там был послом Н. И. Панин, и которого Никита Иванович очень ценил как способного и умного дипломата. «Сей внезапный случай разрушил всё моё намерение в рассуждении вашего туда отправления… стану теперь добиваться… показать вам какую-нибудь другую услугу», — писал Денис Иванович.
Услуги своему другу оказывал и Булгаков. Фонвизину понадобились зубочистки, и он попросил Булгакова прислать их ему. Но в Варшаве зубочисток, как и в Петербурге, не оказалось — «Варшава теперь походит на пустой овин большого села… Отсюда даже до делателей зубочисток все разбежались… Однако ж, хоть сам научусь делать, но с первым курьером зубочистки пришлю», — шутит Яков Иванович в очередном письме Денису Ивановичу.
И вот пожелание работать в Константинополе исполнилось: в конце 1774 года его любимый начальник Н. В. Репнин стал собираться в Константинополь для заключения мира с Оттоманской Портой. И он пожелал взять с собой Булгакова, о чём последнему немедленно сообщил Фонвизин и предложил Якову Ивановичу приехать в Петербург и договориться об условиях поездки с Репниным. Ездил ли Булгаков в Петербург или нет, не известно. В это время стала восходить звезда его товарища по университету Григория Александровича Потёмкина, и он тоже мог посодействовать в исканиях Якова Ивановича.
Как бы то ни было, Булгаков весной 1775 года поехал на переговоры с турками в качестве маршала посольства. Вместе с ним ехал другой сокурсник по университету — Аркадий Иванович Морков, и оба они, вступив в переговоры с визирем, внесли весомую лепту в успех посольства, в частности, по вопросу независимости Крымского ханства от Турции, которая послужила началом к присоединению Крыма к России и завоевания Таврии.
В сентябре 1776 года Репнин со своей свитой с триумфом возвратился в Петербург и в отчёте государыне особо отметил роль Булгакова, который распоряжался подарками, руководил церемониями и имел «на своих руках тож все внутренние учреждения и подробности посольства». Эта «командировка» помогла Булгакову хорошо ознакомиться с обстановкой в Константинополе и помогла ему с таким же успехом выполнить свою очередную там миссию.
В 1778 году Булгаков снова в качестве помощника Репнина отправился в Германию улаживать конфликт между Австрией и Пруссией. После смерти баварского курфюрста Максимилиана Иосифа в декабре 1777 года Вена и Берлин предъявили претензии на Баварию и начали друг против друга военные действия. Репнин явился в сопровождении армейского корпуса и к маю 1778 года, при содействия Версаля, добился созыва т. н. Тешинского конгресса, по которому Австрия отрезала себе от Баварии т. н. Иннский кусок, а Саксония, союзница Пруссии, получила денежную компенсацию.
В 1781 году Булгаков вместе с камер-юнкером М. С. Потёмкиным, в связи с первым разделом Польши, предпринял раздел между Новороссийской губернией и Польской Украиной, за что Екатерина произвела его в статские советники. Лестные отзывы о молодом дипломате со стороны Г. А. Потёмкина и Н. В. Репнина заставили императрицу по-новому взглянуть на него, и она решила назначить Булгакова посланником к турецкому султану Абдул-Хамиду. Крым ещё не был присоединён к России, а русско-турецкие отношения не отличались ни взаимопониманием, ни дружбой.
Булгаков пришёл к хорошо информированному Фонвизину, чтобы узнать, в чём будет состоять его инструкция при отправлении в Константинополе должности посланника. «Вот в чём инструкция заключается, — ответил Денис Иванович, — у нас ребят пугают всё турками; надобно это переменить и сделать так, чтоб впредь в Царьграде дрожали при имени русского». Ему также надлежало смягчать впечатление турок от будущего присоединения Крыма к России. Как писал Потёмкин, Булгакову следовало угобзить людей, имеющих силу и «через пристойные внушения» дать им понять, «в какой теперь войска наши готовности к нанесению им по первому знаку чувствительных ударов». Основная трудность при этом, по правильному предположению князя, будет заключаться в нейтрализации влияния на султана «французской шайки».
Отправляясь весной 1781 года в Константинополь, Яков Иванович обратился к Безбородко с просьбой приглядеть за своим престарелым отцом и помочь ему расплатиться с долгами. (Просьба эта была исполнена, сообщает нам Бартенев.) Он уже хорошо знал, что его предшественник Стахиев, добивавшийся независимости Крыма от Порты, едва не стал жертвой разъяренной стамбульской черни, и писал Безбородко: «Не боюсь ничего, что бы со мной ни сделали — пропаду один, но мщение за меня произведёт общее добро».
Булгаков питал огромный пиетет к императрице Екатерине и был рад тому, что служил орудием для исполнения её гениальных предначертаний. Он нередко повторял, что боится за Россию только ночью, когда государыня почивает. Находясь в постоянном контакте с Потёмкиным, он регулярно передавал ему свои отчёты и получал от него важные сведения об оценке своих трудов в Петербурге.
История не сохранила подробных сведений о пребывании Булгакова в Турции вплоть до 1783 года. В 1783 году ему удалось заключить выгодный и для Порты, и для России торговый договор, и казалось, ничто не предвещало грозных событий в отношениях между обеими странами. После формального присоединения Крыма к России Порта на первых порах хранила молчание, но затем разгорелась жаркая дискуссия, усердно подогреваемая «французской шайкой» и чернью на улицах Константинополя. С большим трудом Булгакову удалось удержать султана от резких действий и 28 декабря 1783 года заключить с Портой трактат о согласии на присоединение Крыма к России.
Потёмкин был в восторге и направил Булгакову горячие поздравления: «Труды ваши останутся в потомстве. Могу вас при этом уверить, что её величество отдаёт вам ту справедливость, которую вы заслуживаете. Что если я из Крыма на судне приеду к вам в гости? Я без шуток хочу знать, можно ли сие сделать». Булгаков отговаривал князя от поездки, уверяя, что его появление в Константинополе вызовет лишний накал страстей и неблагоприятное отношение официальной Порты. Что касается положенной ему за труды награды, Булгаков без лишней скромности просил Потёмкина, что для пользы дела было бы важно возвысить его в глазах турок и французов, к примеру, орденом Белого Орла. Но скромные надежды на вознаграждение были превзойдены решением Екатерины дать ему чин действительного статского советника и пожаловать орден Св. Владимира 2-й степени. Яков Иванович был вполне доволен и до 1786 года вёл достаточно безоблачный образ жизни, наслаждаясь и семейными благами.
Тревога началась в 1786 году.
Абдул-Хамид в мыслях своих уже давно решил начать войну с Россией. Готовилась к ней и Екатерина, заблаговременно заключив союз против турок с австрийским императором Иосифом II. Начало этому союзу было положено во время её поездки в Таврию в 1787 году, в которой участвовал и Булгаков По возвращении в Константинополь он 5 августа был вызван на конференцию к визирю, предложившему ему вернуть Крым в прежнее своё состояние. Булгаков отверг это предложение и сразу после этого был объявлен мусафиром, т. е. гостем Блистательной Порты и помещён отбывать турецкое гостеприимство в Едикуле, т. е. в Семибашенный замок. Одновременно Порта объявила России войну.
В Семибашенном замке русский посол провёл 26 месяцев, и это, по признанию Бартенева, ознаменовало истинную славу для русского дипломата. Яков Иванович вёл в заключении журнал, в который вносил все примечательные и важные с его точки зрения события. Заключение в Едикуле разделили сотрудники посольства драгоман Николай Пизани, секретарь Иван Яковлев, переводчик Иосиф Дандрий, камердинер Александр Алымов и один лакей. Всех этих людей Булгаков взял по своему выбору, и турки против этого выбора не возражали. Следует отметить, что турецкие власти вели себя довольно вежливо, никаких неудобств заключённым не причиняли, а посольские здания взяли под охрану. На содержание Булгакова Порта выделила сначала 15, а потом 25 пиастров. Сумма ничтожная, пишет Бартенев, но вероятно у посла были собственные средства, позволившие жить в скромном достатке и заниматься разведывательно-дипломатической деятельностью и снабжать информацией Потёмкина.
Булгаков купил у диздаря, т. е. коменданта Едикуля, участок земли, разбил на нём сад и огород и свободное время проводил в саду, копался в земле и усердно поливал растения. Турецкая охрана и диздарь относились к нему с большим почтением. Интернунций, исполнявший обязанности посла Иосифа II, выразил пожелание провести своё время в качестве гостя Едикуля, но турки не захотели предоставить ему такой привилегии и, выдав фирман, выдворили его из страны. В начале февраля 1788 года турки начали заискивать перед Булгаковым, просили его не стесняться и обращаться к ним со своими нуждами и прислали ему в подарок мешочек с золотом. Яков Иванович поблагодарил за внимание, попросил турок ослабить режим общения со своими подчинёнными, но от золота решительно отказался.
Судя по всему, Булгакову удалось установить связь с внешним миром и получать интересные сведения о положении в воюющей Турции. В начале 1789 года ему удалось получить секретный план войны с Россией, составленный французским послом М.-Г. Флораном Огюстом Шуазелем-Гуфье (1752—1817), и переправить его Потёмкину. Он извинялся за «беспорядок донесения», потому что писал украдкой и сетовал на то, что не знает, доходят ли его донесения до адресата. Он изловчился даже написать письмо Екатерине, в котором сообщал, что диздарь заметил, что «гость Порты» слишком много пишет. Яков Иванович сказал Екатерине, что если у него отнимут чернила, то он продолжит писать донесения, написанные собственной кровью.
В Семибашенный замок не доходили правдивые сведения о военных успехах русской армии, но вести о громких победах А. В. Суворова проникали в Константинополь. Победа под Кинбурном и взятие Очаковской крепости стали известна во всём мире и поколебали уверенность султана Абдул-Хамида, он был уже склонен к переговорам, но неожиданная его смерть 27 марта (7 апреля) 1789 года ещё на два года продлила войну. Его преемник, 28-летний племянник Селим III не мог начать своё правление заключением мира.
Булгаков получил возможность увидеть султана и описать его внешность. 24 июня (5 июля) Селим неожиданно инкогнито пешком пришёл в Едикуль, и Булгаков составил об этом подробное донесение. Султан прибыл в сопровождении небольшой свиты, в которую по традиции был включён и палач. Комендант отсутствовал и заставил повелителя правоверных ждать себя некоторое время. Прибежав запыхавшись, он бросился целовать обувь султана и желать ему многих лет царствования. После этого диздарь провёл Селима мимо покоев замка, в которых жил русский посол. Далее султан вошёл в сад, принадлежавший диздарю, и совершил там вечернюю молитву и прикоснулся к предложенному ему тератору — угощению в виде холодного супа из толчёных орехов, уксуса, чеснока, крошёного хлеба и деревянного масла.
Суп султан запил крепким и горячим кофе и стал расспрашивать диздаря о возрасте Булгакова, о помещении, в котором он содержался и о том, было ли заключение иностранных посланников в Едикуль традицией Порты. Диздарь сказал, что русскому гостю от 45 до 48 лет, что живёт он в селамлыке, т. е. приёмных комнатах, «сторожу и рабу вашему принадлежащих», и что после выступления санджак-шерифа в поход иностранные посланники водворялись в Едикуле. Выслушав объяснения диздаря, Селим раздал деньги охранникам и, выходя из сада, пристально смотрел на окна селамлыка и сказал коменданту:
— Хорошо ты его учредил.
Диздарь подтвердил эту оценку почтительным наклоном головы, и Селим покинул замок. В свой дворец султан вернулся на двух лодках.
Ещё весной 1789 года Булгаков просил турок отпустить его или хотя бы членов его семьи домой. Скоро и сам султан, и «французская шайка» стали подумывать об окончании войны, а Шуазель предложил Булгакову возможность нелегально покинуть Порту на французском фрегате. Яков Иванович ответил, что он не желает быть обязанным никакому постороннему средству своего освобождения и что за свою личную безопасность он не пожертвует честью престола и отечества.
К концу года Селим «созрел» для решения отпустить Булгакова домой и 24 октября (4 ноября) 1789 года, не послушав внушений английского, прусского и шведского посланников, отдал соответствующий приказ. Турки наняли специальное рагузинское судно для доставки Булгакова, его семьи и товарищей в Италию. По пути судно загорелось, и его пассажиры были вынуждены пересесть на французский фрегат La Badine, который в начале декабря высадил всех в принадлежавшем Австрии Триесте. Оставив своих детей, Булгаков через Вену, где его принял Иосиф II, назвав своим севастопольским приятелем, поспешил к Потёмкину. Потом он выехал в Петербург, чтобы получить все милости и награды от самой государыни. Это было самым счастливым моментом в жизни дипломата.
Сведений о пребывании Якова Ивановича при дворе мало: известно только, что он получил чин тайного советника, деньги, поместья в Белоруссии и орден Белого Орла, пожалованного королём Польши. Он выехал в Москву, но своего отца живым не застал: старик умер, не выдержав переживаний за сына, оказавшегося в плену у турок. Надолго задерживаться в Москве Булгакову не пришлось: Екатерина снова послала его в Варшаву своим полномочным министром на смену графу Стакельбергу. Бартенев пишет, что невозможно было представить более удачного назначения, чем это: в пользу этого свидетельствовал весь 30-летний опыт работы Якова Ивановича.
Но, к сожалению, пребывание его в Варшаве было прервано: Потёмкин скоро после того умер, Безбородко оказался не у дел, а делами стал править новый, 12-й фаворит Екатерины, граф П. А. Зубов. При Зубове вошёл в фавор некий рагузинец А. И. Альтести, выведенный в своё время в люди Булгаковым, а теперь ставший вставлять ему палки в колёса. Булгаков подал в отставку и, сдав свою должность Я. Е. Сиверсу (1731—1808), выехал в Петербург. Там он купил себе дом и решил провести остаток жизни на покое. Государыня не лишила его своего внимания и поручила ему перевести с французского языка книгу Д. Бардона «Образование древних народов», что он и сделал весьма успешно. Книга в 4-х частях была опубликована в 1795—1796 гг. за счёт казны, а переводчик был вознаграждён милостивым рескриптом и табакеркой с вензелем императрицы, осыпанной бриллиантами.
Вообще история литературного творчества Я. И. Булгакова, берущая своё начало со студенческой скамьи, заслуживает отдельного рассказа, и мы отсылаем читателя к соответствующим источникам. Похвальные отзывы на этот счёт делал и его друг Фонвизин, и П. А. Вяземский, и многие другие. Его избрали почётным членом Петербургской Академии наук. Н. М. Карамзин получал от него советы, пользовался его материалам и библиотекой при написании «Истории государства Российского». Литературно-научное наследие Булгакова впечатляет и своим объёмом, и разнообразием интересов.
Павел I пожелал видеть Булгакова Виленским и Гродненским гражданским губернатором. И Яков Иванович дал на это своё согласие, тем более что ему пришлось снова быть под начальством Н. В. Репнина, начальствовавшего тогда над всеми присоединёнными польскими областями. Виленским губернатором были довольны и жители губернии, и сам император, который, возвращаясь со своей коронации из Москвы в Петербург, заехал в Вильну и надел на шею Булгакова орден св. Александра Невского. В 1798 году, за успешное предохранение края от заразы и осуществление некоторых удачных политических проектов, он удостоился новых милостей императора, получив чин действительного тайного советника и похвальную грамоту, в которой были такие слова: «Да узрят все, сколь лестно служить отечеству подобно вам, и да подражают вам сыны сынов ваших!».
В это время в Вильне проживал сосланный Павлом недоброжелатель губернатора П. А. Зубов. Яков Иванович обходился с ним вежливо и не произнёс в адрес опального графа ни слова упрёка или обиды.
Частые припадки подагры заставили Булгакова в 1799 году уйти в отставку и поселиться в Москве. «Там тихо угасал почтенный старец», написал Бартенев о нём в конце своего очерка. Император Александр приглашал его вернуться на службу, но Яков Иванович по причине здоровья уже не был в состоянии соответствовать этому приглашению. Окружённый общим вниманием, Булгаков мирно доживал свой век — довольно короткий по нынешним понятиям. 7 июля 1809 года он скончался на руках двух своих сыновей на 66-м году жизни.
Оба сына пошли по стопам отца и внесли свою лепту в укрепление и развитие дипломатической службы России.
Глава 9. С. Л. Лашкарёв, дипломат Екатерины II
Сергей Лазаревич Лашкарёв (1739—1814), российский военный и дипломат грузинского происхождения, считается одним из примечательнейших людей эпохи Екатерины Великой и один из главных государственных деятелей, способствовавших присоединению Крыма к Российской империи и освоению Черноморского бассейна.
Советский историк Г. Л. Кессельбреннер написал о Лашкарёве книгу, и желающие могут с ней познакомиться. Наша задача более скромная — высветить некоторые периоды из жизни Лашкарёва, связанные в том числе с присоединением Крыма.
При возвращение Крыма в лоно России в 2014 году было много всего говорено, написано, снято, показано, что, конечно, заслуживает всякого нашего одобрения и удовлетворения. И было бы уместно упомянуть имя одного из главных виновников присоединения Крыма к России — имя Сергея Лазаревича Лашкарёва. Исправлению этого обидного недоразумения, может, хоть частично послужить наш скромный компиляционный труд.
Лашкарёв — русский вариант грузинской фамилии. Отец нашего героя — Лазарь Григорьевич Лашкарашвили-Бибилури — в 18-летнем возрасте приехал в 1724 году в Россию вместе с грузинским царём Вахтангом VI, приглашённым Петром I, женился потом на русской дворянке и поселился в Москве.
Сергей Лазаревич родился в 1739 году и получил обычное для небогатых дворян образование, включавшее, однако, владение восточными и др. языками, например, грузинским и армянским языками, перенятыми, вероятно, от отца. Способному к языкам юноше была прямая дорога в Коллегию иностранных дел (КИД), куда он и был принят на должность т. н. студента (стажёра) 1762 году, т.е. во время правления Петра III.
Для изучения восточных и других языков он был направлен в Константинополь под крыло нашего там резидента и тайного советника А. М. Обрезкова (1718—1787), где овладел через несколько лет итальянским, французским, турецким, персидским, арабским, татарским, греческим и армянским (грузинский язык был для него родным). В 1768 году, в самом начале войны России с Турцией, Алексей Михайлович Обрезков был арестован и посажен в Семибашенный замок (такая у турок была традиция — во время войны сажать за решётку русских послов), так что посольскими делами пришлось заниматься Лашкарёву.
Лашкарёв рьяно принялся за дела русских купцов, пострадавших от турецких властей, помог выручить им потерянные капиталы и под разными именами тайно переправил их из Турции в Голландию. Он преодолел суровый режим заточения Обрезкова и установил с ним тайную переписку, поддерживал постоянную связь с находившимся в Архипелаге, в Средиземном море, графом А. Г. Орловым и с главнокомандующим русской армией П. А. Румянцевым (1725—1796), получившим после войны приставку «Задунайский». Он сумел наладить канал связи с русским послом в Вене князем Д. М. Голицыным (1721—1793) и с помощью грека Афанасия Дири переправлять ему важные разведывательные сведения. Ко всему прочему, неутомимый Лашкарёв умудрялся поддерживать антитурецкие выступления в Эпире и Греции, за что турецкая чернь неоднократно пыталась лишить его жизни, но Сергею Лазаревичу каждый раз удавалось избежать их мести, используя отличное владение турецким и другими языками и применяя всякого рода хитрости и увёртки.
В 1770 году турки, уставшие от войны и желавшие начать с русскими мирные переговоры, решили освободить Обрезкова и разрешили Лашкарёву приехать в крепость Демотику, забрать посла и отвезти его в Киев. В 1771 году Лашкарёва вызывали в Петербург, в следующем году присвоили звание переводчика трёх коллегий и отправили на Фокшанский конгресс. Из Фокшан его с секретным поручением Румянцева командировали в Архипелаг к Орлову. (Екатерина II в это время изучала вопрос о приобретении в Архипелаге острова для России). Он жил инкогнито в доме греческого купца в г. Негропонте (о-в Эвбея), но турки каким-то образом прознали про него, окружили дом и потребовали его смерти. Лашкарёв выскочил на балкон с тазом воды и крикнул по-турецки, что если они не разойдутся, он всех перекрестит во имя Отца и Сына и Святого Духа. Напуганные турки разбежались, а Лошкарёв немедленно сел на коня и ускакал в гавань, где спасся на европейском корабле.
По заключении Кучук-Кайнарджийского мира в 1774 году вместе с поверенным в делах полковником и д. с. с. Х. И. Петерсоном снова прибыл в русскую миссию в Константинополе и первым делом занялся возвращением русских и не только русских пленных. Пока велись переговоры с турками на этот предмет, Лашкарёв содержал на своём иждивении детей этих пленных, потому что им грозило принятие ислама. Исполнив это поручение, Сергей Лазаревич отправился в Дарданеллы, чтобы распорядиться отправлением оттуда греков-переселенцев с Архипелага в Таганрог, для чего были наняты 30 купеческих судов.
По прибытии в 1775 году в Константинополь полномочного посла России князя и фельдмаршала Н. В. Репнина (1734—1801) Лашкарёв был использован при нескольких важных и секретных его поручениях, в том числе для снятия планов турецких крепостей в Черном и Азовском морях. Вернувшись из поездки, С. Л. Лашкарёв женился на дочери генерального консула Женевской республики Дюнанта. Расчётливый женевец долго и упорно препятствовал этому браку, считая, что безвестный и бедный переводчик ищет богатого приданого. Благодаря вмешательству Николая Васильевича и его супруги Натальи Александровны, а также самой Екатерины II, вопрос был решён положительно. Репнин взял на себя обязанности посаженого отца, а государыня распорядилась сыграть свадьбу как можно пышней. Сам султан Абдул Хамид I выезжал верхом, чтобы посмотреть поезд и возвращение новобрачных из церкви. На другой или третий день Сергей Лазаревич, «переодев, как мог, свою жену, отослал к отцу всё её приданое».
После отъезда в 1776 году Репнина Лашкарёв оставался переводчиком и при новом после Александре Стахиевиче Стахиеве (1724—1794) и был «употребляем для тайных сношений как с Диваном Оттоманской Порты, так и с членами его в домах их», т. е. фактически занимался агентурной разведкой и сбором агентурных сведений.
Ему было поручено обеспечить проход через Дарданеллы 5 купеческим судам в сопровождении 40-пушечного фрегата «Северный орёл», которым командовал капитан Т. Г. Козлянинов. С «купцами» проблем не было — они скоро пришвартовались в Константинополе, а вот фрегат турки пропускать отказались: Россия ещё не была участницей соответствующего трактата. Но Лашкарёв в приватном порядке договорился с Дарданельским комендантом и некоторыми другими турецкими начальниками, и «Северный орёл» стал на стоянку рядом с английскими и французскими военными кораблями. Это случилось 14 ноября 1776 года. С этого момента русские военные корабли могли де-факто проходить через проливы. Нашим военным морякам не стоит забывать имя Лашкарёва!
В 1779 году в жизни Сергея Лазаревича произошли важные события: он был произведен в коллежские асессоры и назначен консулом в Синоп, по предложению князя Потёмкина в Славянском уезде Екатеринославской губернии 2 декабря ему была пожалована земля на 100 дворов, а 7 декабря состоялся высочайший указ КИД о назначении его генеральным консулом в Молдавию, Валахию и Бессарабию. Лёд тронулся, и на 41-м году Лашкарёв был переведен в «настоящие» дипломаты. С 1780 по 1782 год ему удалось сделать следующее: получить доступ для русских купеческих судов в Дунай и другие порты Бессарабии; добиться от Порты предписания о беспрепятственном возвращении в Россию российских подданных, оказавшимся волею судеб на территории Турции (по этому предписанию в Россию вернулись 132 человека); уменьшить пошлины на русские товары, ввозимые в Молдавию и Валахию, за что получил высочайшую благодарность.
12 октября 1782 года Лашкарёв был пожалован в надворные советники, а 25 октября назначен резидентом при крымском хане Шагин-Гирее с окладом 4000 рублей. В этот короткий период конца 1782 года Лашкарёв оказался в Петербурге, и Екатерина II захотела увидеть жену Лашкарёва Констанцию Ивановну, женщину редкой красоты. Согласно приказанию императрицы, Лашкарёва была представлена ей в греческом одеянии, которое она носила в Константинополе и которое так понравилось государыне, что она была обязана показываться в нём при дворе до самой своей кончины в декабре 1793 года.
Лашкарёв прибыл в Бахчисарай в феврале 1783 года и 28 числа этого месяца впервые получил от князя Потёмкина письмо, в котором тот сообщал о намерении присоединить Крым к России. К письму князь приложил копии с ордеров генерал-поручику Антону Богдановичу Дебальмену (1741—1790), который с войском уже находился в Крыму. Из этих ордеров явствовало, что гавань Ахтиарская с окружностью (будущий Севастополь) и Инкерман уже должны были удерживаться русской армией. Окончательное решение России в отношении Крыма Лашкарёв получил 26 апреля. «Государь мой!, — писал Потёмкин. — Я Вам в сокровеннейшей тайне имею объявить, что область Татарская вскоре присоединится к России. Вам не было нужды уговаривать хана принять паки власть, ибо оставление им державства нам полезнее всего для помянутого предприятия».
Лашкарёв к этому времени сумел завоевать доверие хана, убедить его отказаться от покровительства Порты, просить покровительство России и переехать в пределы Империи. Все эти шаги послужили к окончательному присоединению Крымского полуострова к России. К июню 1783 года вся переписка Потёмкина с Лашкарёвым по этому вопросу была прекращена, но по другим вопросам продолжалась. 24 мая 1783 года Потёмкин из Херсона послал Лашкарёву письмо следующего содержания: «Нужно мне крайне ведать, что теперь происходит в Синопе и какое там есть число войск турецких. Для сего скрытым образом извольте послать туда нужного конфидента, …обнадёжа его хорошей заплатой». Письмом от того же дня князь срочно вызывал Лашкарёва в Херсон, а через 5 дней прислал запрос относительно исполнения предыдущих двух указаний.
На Лашкарёва посыпались награды: звание советника канцелярии, имение в вечное владение в Белорусской губернии с населением 400 крепостных душ, оплата долга 12 тысяч рублей за счёт казны и перстень стоимостью 5 тысяч рублей. 18 ноября 1784 года Потёмкин препроводил Сергею Лазаревичу всемилостиво пожалованную медаль на присоединение Таврии к России.
Лашкарёву осталось убедить Шагин-Гирея уехать из понравившейся ему Тамани и поселиться в Воронеже, Орле или Калуге — подальше от Крыма. Потёмкин разгадал цель приверженности хана к Тамани. «Хан хочет через сие держать татар в нерешимости, что едет вон или нет», — писал он Лашкарёву 18 июня 1783 года. Впрочем, хан не долго упрямился, подчинился воле новой власти и получил Лашкарёва в качестве своего пристава (наблюдающего).
Если отказаться от покровительства Турции хана вынудило присутствие в Крыму русской армии под командованием князя В. М. Долгорукого-Крымского (1722—1782), то переселение его вглубь империи целиком является заслугой Лашкарёва. Выезжая из Калуги в Петербург по вызову императрицы, Лашкарёв услышал от Шагин-Гирея такие прощальные слова: «Я лишаюсь в тебе последнего утешения моего; конец мой настал — я не останусь более в России». Хан попросил Екатерину отпустить его в Турцию, где он и скончался, едва переехав границу.
2 марта 1786 года Лашкарёв был назначен поверенным в делах России в Персии с жалованьем 6000 рублей, но в Персию он так и не выехал, будучи задержан Потёмкиным для употребления в азиатских делах. 22 сентября он был награждён орденом св. Владимира 4-й степени «за усердную службу, особенное в делах искусство и точное исполнение должности с успехом и пользою государственною». Ему было приказано, чтобы, несмотря на свой чин, он являлся во дворец и «имел вход за кавалергардов».
В это время цари Грузии и Имеретии выразили желание принять вслед за Крымом покровительство Российской империи. Поскольку Порта считала эти царства, народы Кавказа и Кубани своими подданными, посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову (1743—1809) пришлось войти по этому вопросу в объяснение с турками. Ему на помощь и для сбора разведданных в конце 1786 года был отправлен Лашкарёв. Турки затягивали переговоры с Яковом Ивановичем, чтобы выиграть время для подготовки к новой войне с Россией.
Английский и французский послы в Константинополе действовали против России. Англичанин, полагая, что Лашкарёв прибыл в Турцию, чтобы отправиться в Персию, усиленно агитировал султана не пропускать Лашкарёва через свою территорию. Происки англо-французов были ничто в сравнении с влиянием и авторитетом, которым Сергей Лазаревич пользовался у турок. Накануне объявления войны России один турецкий сановник по секрету сказал Лашкарёву: «Уезжай, завтра поднимут знамя Магомета». Этой же ночью Лашкарёв убыл из Константинополя.
С. Л. Лашкарёв в последующие годы находился при князе Потёмкине: и во время путешествия Екатерины II в Крым, и в продолжение войны с Турцией. 16 декабря 1787 года императрица пожаловала ему ещё 400 душ — теперь уже в Полоцкой губернии. Потёмкин относился к Лашкарёву с исключительным доверием и расположением. Однажды в Кременчуге, задержавшись у Потёмкина до поздней ночи, Лашкарёв, не найдя своей шубы, остался ночевать у князя в гостиной на диване. Князь, услышав шорохи, обнаружил Лашкарёва и, узнав о причине, приказал подать ему свою зелёную бархатную с чернобурыми лисицами шубу с Андреевской бриллиантовой звездой и накрыл ею спящего. Потом князь эту шубу ему подарил.
По ордеру Потёмкина от 22 ноября 1788 года Лашкарёву в Крыму на реке Каче было отведено 3300 десятин земли и сад в Судакской долине. За 2 года до своей кончины Потёмкин, в знак особого своего расположения, подарил Сергею Лазаревичу заказанный в Венеции перстень со своим портретом на голубом камне. Перстень перешёл в наследство его сыну Павлу Сергеевичу, а потом — старшему из внуков.
В 1788 году Лашкарёв удостоился звания статского советника, а после взятия Очакова был назначен для сопровождения Очаковского паши в Петербург. Вернувшись из Петербурга, он управлял Молдавией. В 1789 году удостоился награждения орденом св. Владимира 3-й степени. Во время войны неоднократно был посылаем в Шумлу для переговоров с великим визирем о заключении мира. Он был третьим полномочным на Ясских мирных переговорах, с 10 ноября по 29 декабря присутствовал на 13 сессиях и поставил свою подпись под мирным соглашением. Всё это время Потёмкин не переставал поддерживать с Лашкарёвым связь и направлять ему инструкции о способах оказания влияния на турецкую сторону. В архиве сына Лашкарёва Павла Сергеевича сохранилось около двух десятков писем и т. н. ордеров князя.
По окончании войны Лашкарёв был награждён имением в Минской области с 656 душами, званием действительного статского советника и получил поздравление от А. В. Суворова. Екатерина предложила ему отдохнуть в деревне, но Лашкарёв в деревне не задержался и прибыл в Петербург, не дожидаясь вызова, где ему сразу же нашлось дело: Коллегия иностранных дел поручила ему азиатские дела с правом личного доклада императрице.
Примечательно, что Лашкарёв постоянно делал долги, хотя владел многими имениями и получал большое жалованье. Объяснялось это большими расходами на содержание дома и поддержание своего высокого статуса. Однажды Екатерина шутя спросила его:
— Маленький богатырь (Лашкарёв был малого роста), долго ли я за тебя буду платить долги?
— Матушка государыня, — ответил тот в тон, — покуда красть не стану.
При вступлении на престол Павла I Лашкарёву было приказано быть членом, т. е. управляющим, Азиатского департамента КИД с еженедельным личным докладом императору. Ему уменьшили жалованье, но компенсировали пожалованием 550 душ в Литовской губернии. Павел относился к нему так же благосклонно, как и его мать, и награды продолжали сыпаться на Лашкарёва, как и прежде: орден св. Анны 2 класса (1798), чин тайного советника (1799), орден св. Анны 1 класса, 30000 рублей на покупку дома, орден св. Иоанна Иерусалимского (1800).
Однажды Лашкарёв зашёл с докладом к управляющему КИД графу Ф. В. Ростопчину (1763—1826) и застал там фаворита Павла И. П. Кутайсова (1759—1834). Полагая, что беседу двух графов продолжится долго, Лашкарёв поспешил откланяться, чтобы не опоздать с докладом к императору. Иван Павлович предложил Лашкарёву докладывать Фёдору Васильевичу при нём — он не помешает.
— Извините, граф, тут есть секретные бумаги.
— Так что же? Вы знаете, что государь от меня секретов не имеет, и что мне известны государственные тайны поважнее ваших.
— Очень верю, — отвечал Лашкарёв, — но пока не увижу указа о назначении вашего сиятельства присутствующим в Иностранной Коллегии, до тех пор не могу по существу присяги моей открывать вам тайны, мне вверенные.
Кутайсов пожаловался государю, но тот ответил:
— Нет, этого богатыря ты у меня не тронь.
Однажды в кабинете у Павла зашла речь о назначении пристава к только что поступившему в русское подданство калмыцкому народу. Лашкарёв предложил Павлу своего кандидата, а Павел — лицо, КИД неизвестное.
— Почему ты не хочешь С.? — спросил рассерженный Павел.
— Как я смею не хотеть? — ответил Лашкарёв. — Но я его не знаю и прошу только уволить меня от ответственности за него.
Император в гневе встал со стула. Все вскочили, а Лашкарёв, вероятно от испуга, замешкался.
— Скажите! — вскричал Павел. — Он даже забыл, что говорит с государем!
Лашкарёв вскочил, Ростопчин и калмыки молчали: что будет?
— Он непременно на своём настоять хочет? — обратился Павел к Ростопчину.
Тот пробормотал в ответ что-то невнятное.
— У тебя, богатырь, я чаю, и указ готов? — с усмешкой обратился Павел к Лашкарёву.
Сергей Лазаревич бросился к портфелю, и указ был немедленно подписан.
Павел пожаловал семейству Лашкарёвых изобретённый им самим весьма замысловатый герб: в верхнем голубом поле полумесяц символизирует Восток, в красном нижнем грузин с саблей, вложенной в ножны, с жезлом в левой и пальмовой ветвью в правой руке.
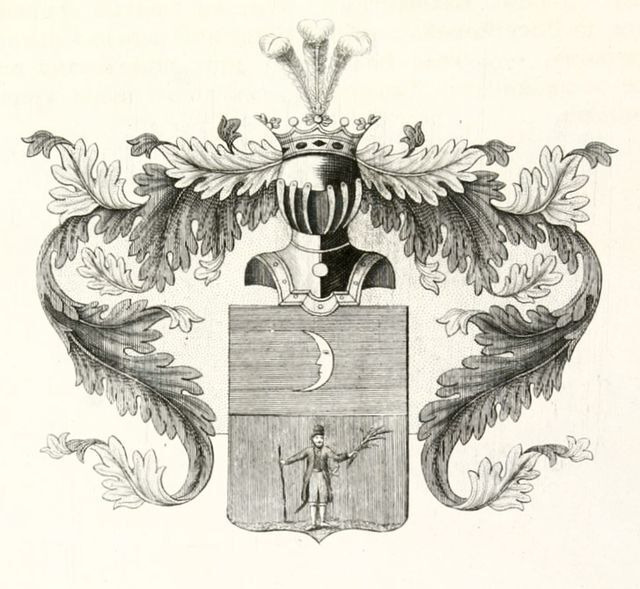
Последним важным делом Лашкарёва при императоре Павле I было составление акта об окончательном присоединении к России Грузинского царства, исполнение акта происходило уже при Александре I. Кстати, Лашкарёв не разделял общего мнения о пользе этого события, полагая, что присоединение Грузии без покорения горцев Кавказа будет стоить России много крови и денег. Планировалось послать Лашкарёва в Грузию для приведения её к присяге, но что-то с этим не заладилось. После присоединения Грузии С. Л. Лашкарёв попросился в отставку, что и было ему позволено в 1804 году. Ему сохранили оклад, пожаловали единовременно 6000 рублей, вручили похвальный лист и золотую табакерку с бриллиантовым императорским вензелем.
Лашкарёв отправился в свои имения, в которых хозяйственного рвения отнюдь не проявлял и отдыхал, пока 19 марта 1807 года не получил письмо от министра иностранных дел генерала А. Я. Будберга (1750—1812) с предложением «принять временную комиссию в том крае, где прежде служение его неоднократно было ознаменовано полными успехами». Оставив семейство в деревне, Лашкарёв явился к Александру в Тильзит и получил устное приказание взять на себя управление Молдавией и Валахией в должности председателя обеих диванов.
Александр I поручил Лашкарёву всткпить в переговоры с турками о перемирии (случилась ещё одна русско-турецкая война), и председатель двух диванов неоднократно ездил в турецкий лагерь и вёл переговоры с пашей Мустафой-бейрактаром, который принимал его с большим уважением. И перемирие было заключено. Позже обстоятельства изменились, и перемирие кончилось, после чего Лашкарёв закончил свою миссию в Молдавии и Валахии и вернулся в свою деревню. Он обосновался в с. Дымове Витебской губернии, изредка наезжая в своё имение Озаричи в Минской губернии.
В 1811 году он в последний раз приезжал в Петербург для свидания со своей дочерью, и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна изъявила желание его видеть, но он по преклонности лет явиться ко двору не решился. В 1812 году в Дымово нагрянул отряд оккупантов под командованием итальянского полковника с намерением поживиться за счёт помещика и его крестьян. Неожиданно полковник узнал в Лашкарёве своего прежнего благодетеля и покинул Дымово ни с чем.
Сергей Лзаревич оставил 6 сыновей и дочь. Он скончался 6 октября 1814 года в Витебске во время переезда из одного своего имения в другое. Прах его покоится на кладбище монастыря св. Марка.
Глава 10. Лазутчик русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
Константин Николаевич Фаврикодоров (1834-?), грек по национальности, в начале русско-турецкой воны 1877—1878 гг. был зачислен на службу в русскую армию. Служил в разведке под руководством «вожатого» полковника Николая Артамонова. Действовал с позиции Журжевского отряда, в котором был начальником штаба и которым потом командовал генерал-майор М. Д. Скобелев. С 31 мая 1877 года и до конца войны сделал 3 разведывательные ходки в тыл турецкой армии. Участник обороны Севастополя в Крымскую войну волонтёром. Автор книги «Среди врагов», Одесса, 1882 год.
Свою карьеру в русской армии Константин Николаевич начал в 20-летнем возрасте, «в силу известных увлечений» вступив добровольцем в Греческий легион Николая I, принял участие в обороне Севастополя, был ранен при деле на Чёрной речке и награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны Фаврикодоров поселился в Кишинёве, женился, принял русское подданство и провёл 22 года в мирных трудах. В начале новой войны с турками он не смог усидеть дома и остаться в стороне от событий и поехал в Плоешти. Там он предложил свои услуги полковнику генерального штаба Н. Д. Артамонову (1840—1918).
Николай Дмитриевич предложил ему совершить «прогулку» по Болгарии и под видом турка собрать нужные для русской армии разведывательные сведения. Фаврикодоров, русский офицер, сначала был оскорблён будущей ролью «шпиона», но полковник, облачив эту роль в слово «лазутчик», через полчаса добился от Фаврикодорова согласия. Для Константина Николаевича, владевшего практически всеми языками и наречиями Балканского полуострова, никакой особой подготовки для выполнения задания русского генштаба не потребовалось. Да никто её дать ему не мог.
Нужно отметить, что разведка в тогдашней России была не самым сильным местом, поскольку профессия шпиона считалась у привилегированных классов Российской империи самой презренной. Но не у Н. Д. Артамонова, умного и образованного генштабиста, понимавшего ту роль, которую разведка должна была играть в современном мире и особенно во время войны. В этом смысле он был приятным исключением из правил, а Фаврикордову просто повезло, что он получил такого «вожатого».
На следующее утро он должен был явиться к Артамонову за инструкциями. Проведенная ночь была для будущего разведчика бессонной и полной сомнений: с одной стороны, он был горд послужить любимой России, но, с другой стороны, перед глазами вставали картины разоблачения, пыток, казни. Он шёл к полковнику с намерением отказаться от принятого накануне предложения, но чувство стыда не позволило ему этого сделать. Артамонов вручил Фаврикордову запечатанный пакет и сказал, что он должен ехать в Журжево и явиться в распоряжение начальника штаба Журжевского отряда М. Д. Скобелева (командиром отряда был старший Скобелев, отец начштаба).
Русскую армию от турецкой отделял тогда Дунай: русские сконцентрировались на левом, а турки — на правом берегу. Журжево находилось — прямо напротив турецкой крепости Рущук. 30 мая 1877 года Фаврикодоров предстал перед Скобелевым-младшим и вручил пакет. В последовавшей беседе Михаил Дмитриевич проинструктировал разведчика о пунктах предстоящего задания по сбору информации о силах турок, их дислокации, вооружении, укреплённых пунктах и т. п. и приказал о результатах доложить либо ему, либо Артамонову. Скобелев не скрывал сложности задания и сопряжённых с его выполнением опасностей, но надеялся на знания балканских реалий и жизненный опыт исполнителя. Он предложил Фаврикодорову отдохнуть, чтобы на следующий день приступить к делу. Для перехода через линию боевого соприкосновения разведчик получил специальный пропуск, пользоваться которым генерал посоветовал в случае крайней нужды: район был нашпигован турецкими шпионами, и чем меньше Фаврикодоров будет светиться на наших аванпостах, тем меньше людей будут о нём знать.
Переплывать Дунай Фаврикодоров решил в более-менее спокойном месте в районе румынского городка Турно-Северина, лежащего напротив сербской территории. 2 июня наш лазутчик поездом прибыл в Турно и, выдав себя за торговца рыбой, стал искать среди местных рыбаков подходящего человека, который смог бы переправить его на правый берег Дуная. Скоро такой человек был найден — Иона Морарь. После некоторой торговли — Морарь заломил за услуги крупную сумму — сделка состоялась, при этом Фаврикодорову пришлось раскрыть себя, объявив свой интерес к противоположному берегу принадлежностью к разведслужбе румынского принца Кароля I (1839—1914).
На правом берегу Фаврикодоров встретил в степи сербских пастухов. Константин Николаевич приветствовал их на сербском языке и сразу вызвал у них к себе доверие. Разговорились. Наш лазутчик понял, что эти сербы были настроены резко антитурецки, и полностью раскрыл цель своей миссии. Он решил продолжить выполнение задачи в обличье пастуха, с их помощью сделал себе из берёзового дёгтя «загар» на теле, приобрёл у них 15 баранов, одежду, свирель и карлигу и двинулся к сербско-болгарской границе, которая была рядом.
Ночью он попас своих баранов, а к утру беспрепятственно перешёл границу по мостику через р. Тимок. Войдя в болгарское село Раховицы, он подкрепился, немного отдохнул и, во избежание лишних расспросов, поспешил уйти дальше. Миновав несколько деревень. он достиг первого крупного города Виддин. Здесь он обнаружил большое скопление турецких войск — более 80 таборов низама, т. е. лёгкой регулярной пехоты (табор насчитывал от 660 до 800 человек), обмундированной с иголочки и вооружённой великолепными ружьями (Фаврикодоров с сокрушением думал о русских солдатиках, вооружённых неудобными «крынками», т. е. однозарядными винтовками, переделанными из дульнозарядных под патрон центрального воспламенения по системе австрийского оружейника Сильвестра Крнка). При армии находилось много английских медиков и инженеров.
Фаврикодорову удалось подробно изучить состав и командование турецких войск, осмотреть укрепления и расположение артиллерийских батарей в Виддине и двинулся вдоль Дуная дальше на восток. Он продал своих баранов, купил себе коня, одежду и оружие — ятаган и два пистолета — спрятал всё в укромном месте, а ночью переоделся и пошёл на Никополь. Теперь он играл роль османлиса — зажиточного турка, ищущего подряды для турецкой армии. Здесь он подробно осмотрел крепость Тунакале и пришёл к выводу, что её оснащение было устарелым, а гарнизон составлял всего 1 табор низама. Рядом на реке стояли 2 монитора, вооружённые современными пушками.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.