
Бесплатный фрагмент - Рождение Человека
Учить, нельзя наказывать — учить нельзя, наказывать…
***
Моим детям, Садие, Давиду и Беслану
Предисловие
Дорогой читатель!
Давно хотел поделиться с вами историями из педагогической практики, живущими годами внутри меня, как реки, незаметно формирующие свои берега.
Вы держите в руках книгу, рождённую сердцем и прошедшую сквозь десятки маленьких судеб и сотен больших потрясений.
Мой путь начался с неожиданного поворота судьбы. Закончив юридический факультет, я думал, что стану адвокатом, защищающим интересы граждан. Но жизнь распорядилась иначе. Однажды я оказался в качестве учителя, затем директором в стенах школы, где сам когда-то сидел за партой, Волею судьбы, я породнился с педагогом (мать супруги), чья вера в меня преобразила мою жизнь навсегда. Это была Инга Мкановна Ладария — необыкновенный учитель, настоящая воспитательница душ. Именно она открыла мне, что педагогика — это не просто профессия, а особая миссия, определяющая будущее целых поколений, а опыт учительства и директорства повлиял на мою карьеру и взгляды на жизнь. Постепенно я понял, что школа — это не только место, где дети получают знания, но и пространство, где рождается Человек с большой буквы. Через десятки сложных ситуаций, в которых я видел отчаяние, страхи и неуверенность детей, я пытался найти ключ к раскрытию потенциала каждого ребёнка. Жизнь подтвердила простую истину: любовь и уважение к ребёнку помогают превратить слабые стороны в сильные черты характера.
В этой книге я решил соединить личный опыт, философию воспитания и реальные истории из педагогической практики. Она рассказывает о том, как формировалась моя философия педагогики, основанная на принципах уважения, доверия и безусловной любви к детям.
Надеюсь, что простые и доступные идеи, испытанные годами, помогут родителям и педагогам понять детей, поставить правильные цели и выбрать подходящие методы воспитания. Но эта книга — не сборник готовых рецептов, а приглашение к размышлению, обмену опытом и поиску уникальных решений. Я приглашаю вас присоединиться к обсуждению и обогащению этой темы. Если мой опыт и советы окажутся полезными и интересными хоть одному человеку, значит книга написана не зря!
С уважением, Саид Анзорович Бейя
***
Творчески применяя педагогические идеи В. Ф. Шаталова, В. А. Сухомлинского, И. Г. Песталоцци, непрестанно уточняя и корректируя накопленный личный опыт, я вместе с коллективом пытался найти такое сочетание теории и практики, которое наиболее полно отвечало бы всем современным вызовам в воспитании подрастающего поколения. В первую очередь, речь идёт о связи школы с жизнью, семьей, научно-техническим прогрессом и обществом.
Как мог возникнуть такой хрупкий, и в то же время, наполненный такими безграничными возможностями, феномен, как человеческий разум?
Верующий человек предложит в качестве объяснения Господа, атеист станет рассуждать о силах природы и законах эволюции. Педагог же наверняка заметит, что помимо наличия высших сил или сил природы, главное для человеческой эволюции — возможность социального, интеллектуального и нравственного развития. Именно этот процесс мы, не вдаваясь в биологические или религиозные тонкости, и будем называть эволюцией в рамках данной работы, поскольку речь пойдёт об эволюции не плоти, а духа.
Что же заставляет человека эволюционировать? В первую очередь, конечно же, среда. Необходимость сделать первый вздох с момента рождения — уже важный шаг на этом пути. Однако с духовной эволюцией всё не так просто и очевидно.
Поначалу малыш впервые познает мир через своих родителей — самых первых людей, которые появляются в мире крохотного человечка. Но всякий ли родитель может стать воспитателем? Каждый ли из них состоялся в этом качестве?
Могут ли одинаково воспитать достойного человека преступник, ученый, тюремный надзиратель, учитель, художник, таксист, крестьянин, военный, хирург, политик?
Какая роль отведена в этом важном процессе государственным институтам? Могут ли они в полной мере заменить институт семьи? И есть ли на эти вопросы однозначные ответы?
Поиск ответов на эти вопросы и станет основным предметом книги, которую я от души предлагаю своим дорогим читателям — учителям и родителям.
«Наиболее полноценное общественное воспитание — это, как известно, школьно-семейное. Семья с существующими в ней взаимоотношениями между детьми и родителями — первая школа интеллектуального, нравственного, эстетического и физического воспитания. Отец, мать, старшие братья и сестры, дедушка и бабушка являются первыми воспитателями детей в дошкольном возрасте и остаются ими, когда их питомцы пошли в школу».
В. А. Сухомлинский. «Павлышская средняя школа»
Рождение человека
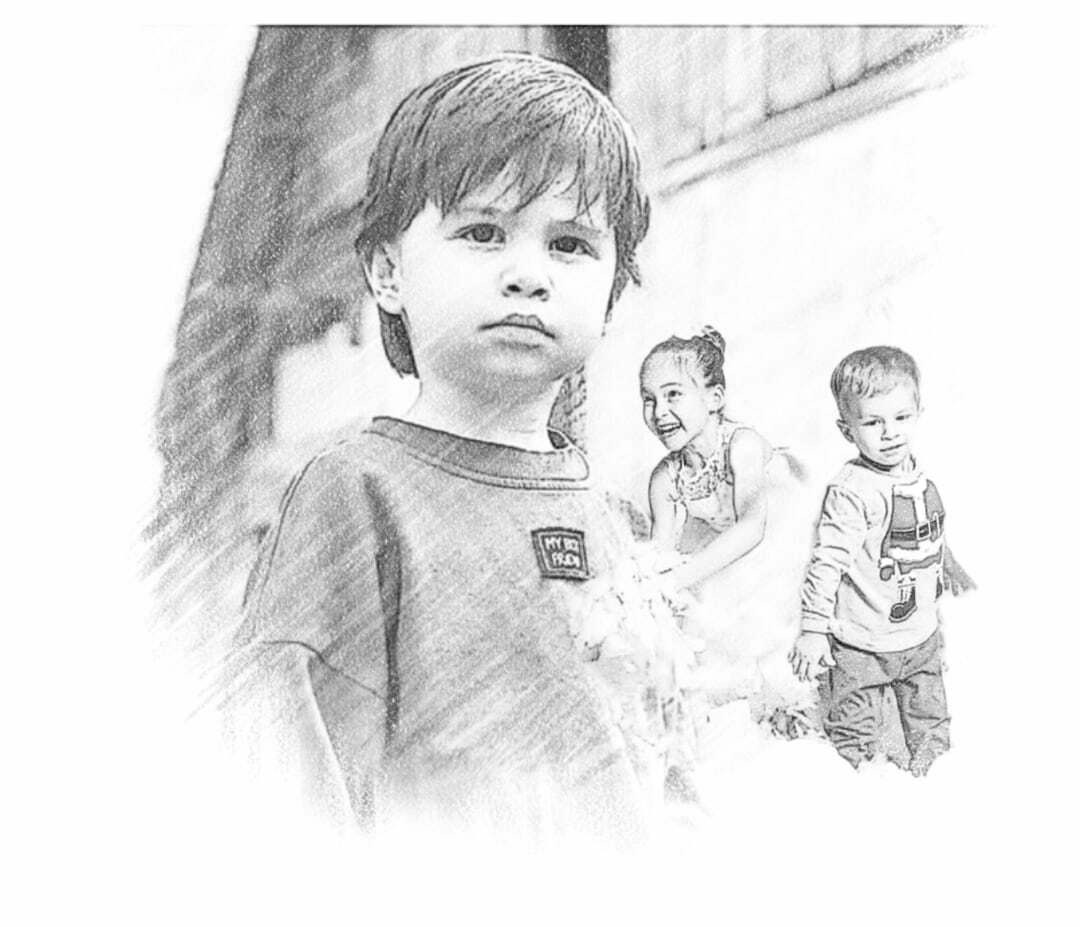
С чего начинается личность?
А если точнее, то: с чего начинается личность ребенка, будущего семьянина, ответственного гражданина, профессионала? А начинается она с очень важного, очень теплого чувства — чувства собственной незаменимости для окружающих. Это, на самом деле, и есть любовь. Именно любовь к ребенку делает его в будущем не просто человеком, а — Человеком, с большой буквы, и зарождается она в семье. Семья, безусловно, важнейший институт не только любого государства, но и всего человечества в целом.
Иоганн Генрих Песталоцци писал: «Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к ним». Именно поэтому я буду говорить о любви, даже если мои слова покажутся кому-то банальными.
Любая несостоявшаяся личность, любой педагогический провал — результат отсутствия любви, как бы ни хотелось порой ради самооправдания сослаться на «стечение обстоятельств», «предопределённость свыше» и другие отговорки.
Чтобы не быть голословным, я приведу несколько примеров из собственной педагогической практики, которые, к сожалению, можно назвать вполне типичными.
Один школьник «часто пропускает школу, а если приходит, то ведет себя агрессивно». Другой «демотивирован, заявляет на уроке, что учиться ему не нужно, он и так проживет неплохо». Третий… Впрочем, стоит ли продолжать, любой педагог сходу приведет не один подобный пример. И проблема здесь однозначно не в детях.
На одного нашего ученика часто жаловались учителя: «Ничего не делает на уроке. Ни книги, ни тетради, ни дневника. Родители не явились ни на одно родительское собрание».
Что ж. Как директор школы, вызываю его в кабинет. Стоит молча, опустив голову. Я тоже решил помолчать. Конечно, я уже обладал некоторой информацией об ученике от других учителей и соседей. Характеризовали парня далеко не с лучшей стороны: «слишком шустрый», «не уважает старших», «обижает девочек», «семья пьющая».
Проведя беседу, понял, что внутри мальчишки крепко засела обида. Ощущение себя никому не нужным, никем не любимым… А глубоко в глазах — надежда. Надежда на любовь, которой ищет любой ребенок. Подошел к нему, протянул руку: «Ну что, дорогой, будем с тобой дружить? Только дай мне слово мужчины, что будешь стараться не нарушать дисциплину». Он посмотрел, сначала недоверчиво, а потом кивнул и как бы нехотя протянул руку в ответ.
Чуть задержал его ладонь в своей: «Когда мужчины договариваются, они смотрят друг другу в глаза». Он поднял голову и посмотрел на меня огромными голубыми глазами. Сколько в них было гордости, сколько надежды… На минуту я подумал: «Боже, ну зачем мы такие жестокие, почему дети вынуждены умолять о таких вещах как любовь?»
Ребенок, растущий без любви и заботы, не может быть сосредоточен на учебе, для него это пытка, ещё одно издевательство судьбы. А если учесть специфику школьной жизни, где одноклассники, в силу возраста, не ощущая чужой боли, порою могут жестоко подшучивать друг над другом, становится понятно, как все это давит на тонкую детскую психику.
Все эти мысли пронеслись в моей голове за одно короткое мгновение, пока провинившийся ученик — нет, не обдумывал ответ. Просто пытался поверить в то, что с ним наконец-то заговорили по-человечески. Уважительно и на равных.
Потом он кивнул. И тихо сказал: «Обещаю».
Это было слово не мальчика. Это было слово мужчины, данное другому мужчине, отнесшемуся к нему как к равному.
И слово своё он сдержал. Неподобающее поведение прекратилось, однако теперь при встречах в школьном коридоре я стал замечать в глазах мальчишки безмолвную просьбу о помощи. Тогда я решил, что буду регулярно уделять ему время — но беседовать не в кабинете, а в непринужденной обстановке, по дороге с уроков.
Прошло всего несколько недель — и он уже ждал наших встреч. Поджидал меня у школы, рассказывал об учёбе и семье, где и правда, были нелады. Поверьте, мне было очень приятно, что я сумел заслужить его доверие. Нет, я не пытался заменить ему родителей. Конечно же, это невозможно. Я дал ему другое — ощущение плеча и сознание того, что не всем в этом мире он безразличен. Мальчик почувствовал себя увереннее, ему больше не надо было самоутверждаться за счет всяческих проказ, ведь он и хулиганил-то лишь для того, чтобы его заметили.
А вот куда менее веселая история.
Ребенок успевал по всем предметам, впереди маячила медаль. Всегда опрятный, всегда улыбчивый, очень вежливый. И вдруг классный руководитель сообщает, что мальчик наотрез отказался учиться. Просто встал и открыто заявил, этими самыми словами. Казалось бы, безо всякой причины — хотя причина, конечно же, нашлась довольно быстро, причём весьма болезненная. Родители ребёнка решили разойтись, отношения выяснялись очень бурно — и никто даже не подумал, какой травмой это обернётся для маленького человека.
Парень решил, что ему ничего не нужно. Перед бывшим отличником замаячила нешуточная угроза остаться на второй год. В школу приходит отец, клятвенно обещает, что его сын всё нагонит… А сын в это время стоит тут же с совершенно пустым, отстранённым взглядом. Ему не нужно, чтобы отец договаривался о его судьбе с директором школы, ему вообще не до учебы. Ему просто не хватает отцовской любви — настоящей, а не проявляемой на людях.
В тот раз мы пошли навстречу и перевели ученика в следующий класс. Вот только на будущий учебный год ничего не изменилось. Мы с учителями несколько раз приходили к ребенку домой. Просили не опускать руки, вернуться к учёбе. Обещали любую возможную помощь. Вдобавок ко всему, выяснилось, что отец решил создать новую семью в другом городе, а мальчика вернуть матери.
Эту даму я увидел второй раз в жизни — хотя с её сыном работал уже который год. Мы побеседовали, и я поразился тому, насколько ей безразлична судьба собственного ребёнка. Женщину волновала лишь ее собственная жизнь: жалобы на неудачное замужество и уход к другому от «несостоявшегося как личность» мужа, который, де, и есть главный виновник произошедшего.
Мысль об ответственности за собственное дитя даже не приходила ей в голову! Для нее мальчик был всего лишь досадной частью той жизни, которую она давно оставила позади. Осознание того, что мать совершенно не беспокоят ни чувства ребенка, ни его моральное и психологическое состояние, вызвало настоящий шок. Так просто не должно быть!
В итоге, если раньше мальчишка часто пропускал занятия, то теперь он просто перестал ходить в школу вообще. Родительница заявила, что «ничего не может поделать».
Увы — в этой ситуации я тоже оказался бессилен. Маленькое человеческое зернышко оказалось перемолото жерновами родительских ссор. Фактически, жизнь ребенка была загублена теми, кто по всем законам, природным и человеческим, должен был больше всех оберегать ее — но предпочел заниматься своими, кажущимися куда более важными, заботами.
Как ни жаль, мальчика все же пришлось оставить на повторный курс. Умного, способного, имевшего все, чтобы добиться многого в жизни — кроме родительского внимания. И это перевесило все.
Вопрос о повторном курсе обучения всегда очень неприятен и для детей, и для родителей. Да и Отдел Образования воспринимает такие случаи весьма болезненно. В учительской среде есть поговорка: «двойку учитель ставит в первую очередь самому себе», наверное, это действительно так. Мы не тираны, такая практика не доставляет нам радости, но мой опыт свидетельствует, что повторный курс чаще всего спасителен для ребенка — конечно, в здоровом работоспособном коллективе. Преступно «за уши» тянуть из класса в класс ученика, не освоившего программу. Отставание от одноклассников будет только нарастать, и чем дольше это будет продолжаться, тем труднее наверстать пропущенное. Другое дело, что статус «второгодника» зачастую воспринимается родителями, учителями, а там и другими учениками как некое клеймо — а это в корне неверно. И, конечно, подобная мера не должна использоваться в качестве наказания. Она означает лишь то, что впереди много работы — и в первую очередь, работы педагогов, допустивших подобный исход.
Люблю эксперименты. Но не над детьми, а вместе с детьми. Одна из форм таких экспериментов — провести в классе урок-беседу. Например, беседу об удачах и неудачах в нашей жизни, об основных ценностях, о том, как добиться успеха и быть успешным — и что для этого необходимо делать. Затронул отношения между родителями и детьми. На первый взгляд, уж слишком широкий круг вопросов. А все для того, чтобы в какой-то момент перейти на тему семейных ценностей — например, проблему неполных семей, и понаблюдать за реакцией учеников.
Одна из таких бесед проходила в классе, где тоже учился мальчик, страдающий от нехватки родительского внимания — особенно отцовского. Если его однокашники охотно объясняли, как они понимают выражения вроде «родительское тепло», то этот лишь опускал глаза и краснел. Могло показаться, что он просто стесняется, однако, увы, всё было не так просто. Только наедине, после долгих и осторожных расспросов, ребенок рассказал, в чем дело.
В общей сложности с ним и его родителем у меня за два года было почти полсотни встреч, на которых обсуждались самые разные темы. Но первой из них стало родительское внимание. Момент превращения мальчика в юношу делает будущего мужчину весьма ранимым, в это время он как никогда нуждается в отцовском совете, отцовской поддержке, отцовском примере. Их отсутствие всегда сказывается и на отношениях в школьном коллективе, и на успеваемости. Здесь важно понимать, что всевозможные поведенческие эксцессы — не абстрактное хулиганство, а невербальные сигналы, желание просто обратить на себя внимание — то самое внимание, которого ребенку не хватает в семье. И грубое слово, нацарапанное на парте, в такой ситуации становится криком о помощи. К сожалению, нам так и не удалось разрешить эту проблему.
«Час рождения ребенка есть первый час его обучения».
И. Г. Песталоцци
Еще один мальчик рос без отца. Мать вынуждена была работать, за внуком присматривала бабушка, которая искренне жалела своего внука и всячески его баловала. Поначалу все шло хорошо, пару лет ребенок неплохо учился, но потом его как будто подменили. И дело было в том, что мать просто опустила руки. Сдалась, не выдержав груза бытовых забот. Признала, что не в состоянии справиться с собственным ребенком. Хуже всего то, что она начала оправдывать каждый проступок своего чада.
Мои слова о том, как для ребенка важна на данном этапе некоторая строгость (например, в соблюдении режима дня, в контроле за выполнением домашних заданий и так далее), к сожалению, не были услышаны.
Тогда, посоветовавшись с другими педагогами, было принято решение пристроить мальчика в спортивную секцию. Это проверенный способ привить ребенку дисциплину и помочь встроиться в социум, победить свои комплексы (подробный разговор об этом будет чуть ниже). И поначалу это принесло плоды: у парня действительно стало лучше с чувством ответственности, появились новые цели и устремления.
Казалось бы, ситуация начала налаживаться — и тут из заключения вернулся отец мальчика. Сразу после этого ребенок просто перестал посещать секцию, занятия в которой еще совсем недавно доставляли ему столько радости. «Нет времени», «Помогаю по дому» — стандартный набор отговорок.
А когда через весьма непродолжительное время отец вновь вернулся в места не столь отдаленные, школьник вообще перестал учиться, начал курить, стал дурно влиять на одноклассников, некоторые из которых принялись копировать его поведение.
Конечно же, при всем желании (а оно, поверьте, было искренним!), за те несколько часов, что мальчик проводил в школе, мы никак не могли изменить его отношение к жизни. Без помощи родителей весь педагогический коллектив оказался бессилен.
Да, дорогой читатель. Я сознательно начал свой рассказ с историй, закончившихся педагогическим поражением. Так порой бывает — всегда чаще, чем хотелось бы, потому что таких случаев не должно быть вообще. Я не пытаюсь выставить себя идеальным и всемогущим профессионалом, творящим чудеса. Хотелось бы, но нет. Школа не всесильна — особенно там, где проблемы глубоко укоренились в семье ребенка. Ведь никакой, даже самый талантливый и искренне любящий детей учитель не способен заменить им папу и маму.
«Поистине великий авторитет и достоинство родителей основывается исключительно на той помощи, которую они способны дать своим детям в построении самих себя. Ребёнок способен плодотворно взращивать себя только в том случае, если ему правильно помогают».
Мария Монтессори
Вместе с тем, стоит отметить, что чрезмерное внимание тоже отрицательно сказывается на детях. Да, им жизненно необходимо, чтобы родители были рядом, всегда могли помочь действием, примером или советом. Но порой, особенно в неполных семьях, детей окружают гиперопекой, потакают любым капризам, а это ведет к избалованности и несамостоятельности. В результате у ребенка складываются ложные представления об устройстве мира, социальных связях, о том, как эти связи могут повлиять на его жизнь и жизнь других людей. Мы получаем эгоиста, для которого виноваты все кругом, только не он сам.
«Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует жертв».
П. Буаст
Не менее чем вседозволенность, опасны и полумеры. Бывает, что столкнувшись с неприемлемой, с точки зрения родителя, ситуацией, тот применяет карательные санкции — например, лишение телефона, запрет на прогулки, установление жесткого режима дня.
Увы, но, как правило, такие меры — именно что полумеры, поскольку принимаются на эмоциях. А как только родители остывают, все вновь возвращается на круги своя. Как правило, ребенок быстро понимает, что никаких реальных перемен в его жизни они не несут, достаточно просто переждать несколько дней или даже неделю, гроза пройдет стороной и жизнь вернется в привычное русло. Телефон вернут, прогулки разрешат, а домашние задания можно будет сделать когда-нибудь потом. Или не сделать вовсе.
Конечно, я не призываю превращать детскую в казарму с ее жестким распорядком, но с раннего детства привить ребенку базовые понятия о самодисциплине, собранности и приоритетах родители обязаны. Причем не в качестве наказания, а именно как неотъемлемые элементы жизни вроде чистки зубов. Как можно раньше усвоив представление о семейных правилах, человеку в будущем будет куда проще адаптироваться к взрослой жизни, стать законопослушным гражданином, потому что законы, в общем, те же обязательные для исполнения правила.
Соблюдение общепринятых правил — базовый элемент культуры, и привить его может только семья, с самого раннего возраста. При необходимости школа может помочь в этом родителям — но только если они сами признают необходимость такой помощи. И, конечно, очень важно, чтобы родители сами были носителями этой культуры и могли служить примером своим детям.
Еще случай. Педагог-предметник жалуется на одного из учеников. Парень срывает уроки, кричит, ходит по классу во время занятий, наконец, прямо оскорбляет учительницу. Та сделала вид, что не услышала обидных слов и продолжила урок, однако класс-то их услышал! После урока попыталась поговорить с хулиганом, но тот в грубой форме отказался общаться. Тогда, в качестве крайней меры, женщина была вынуждена обратиться к директору, то есть, ко мне. Я, как мог, успокоил коллегу, и мы вместе принялись искать выход из, прямо скажем, неприятной истории.
На первый взгляд, ситуация проста и понятна: молодой человек оскорбил учителя, да и раньше не раз вел себя агрессивно по отношению к другим школьникам. Казалось бы, и решение очевидно: принять меры, наказать, чтобы другим неповадно было… Но не значит ли это слишком все упростить? Действительно ли вся вина лежит исключительно на непослушном ребенке, или его агрессия — только следствие куда более глубоких причин, которые мы обязаны обнаружить, проанализировать и попытаться исправить?
Что ж. начинаем поиск причин с родных. Семья полная, на первый взгляд — вполне благополучная. Есть младшие брат и сестра, причем у брата с поведением те же проблемы. А при более серьезном рассмотрении выясняется, что мать мальчика серьезно больна. Состоит на учете в психоневрологическом диспансере, время от времени ложится в стационар. Во время приступов грубо ругается на всех вокруг. Все хозяйство на плечах отца, он справляется — но сил на полноценное воспитание детей уже не хватает. Отсюда и результат: дети копируют модель поведения матери, а отец не способен исправить ситуацию.
Другой мальчишка тоже имел серьезные проблемы с поведением и дисциплиной. Уже в начальной школе он начал проецировать модель поведения и стиль общения взрослых из своего окружения — к сожалению, далеко не лучших представителей рода человеческого. Семья неполная. Отца нет в живых больше трех лет, но след в душе ребенка он оставил неизгладимый, поскольку регулярно уходил из семьи, злоупотреблял алкоголем и позволял себе рукоприкладство. В итоге, воспоминания об отце у мальчика связаны с серьезным стрессом. Мать изо всех сил старалась заботиться о ребенке, но сил хватало лишь на то, чтобы хоть как-то накормить и одеть его. Несчастная женщина просто не понимала, что при сыне не стоит курить, употреблять ненормативную лексику, давать волю негативным эмоциям. Какая уж тут учеба…
В итоге мальчик позволяет себе площадные выражения, обижает девочек, дерется с одноклассниками, по мелочи приворовывает. Какое будущее ждет этого маленького человека? Боюсь, самое печальное.
В такой ситуации, даже если родитель решит всерьез заняться воспитанием своего чада, он, как правило, теряется перед масштабом задачи — и все ограничивается теми самыми полумерами, о которых говорилось выше.
Я рекомендую в первую очередь признать, что если текущая модель воспитания явно приносит далекий от желаемого результат, ее следует честно признать ошибочной. Признать, что менять что-то нужно не только в ребенке, но и в себе. Лучше всего сделать это, мысленно задав себе несколько вопросов:
— Сколько времени в день я могу проводить со своим ребенком?
— Мой ребенок в большей степени нужен мне или обществу?
— Что я делаю для того, чтобы быть для ребенка образцом для подражания?
— Мог ли мой ребенок перенять от меня дурные манеры и привычки?
— Готова ли я меняться ради своего ребенка?
— Понимаю ли я степень ответственности за судьбу моего ребенка?
— Есть ли у меня привычка защищать ребенка в разговоре с кем-то в его присутствии, оправдывать его проступки?
— Как часто я расписываюсь в своем бессилии при ребенке фразами вроде «я больше не могу», «я не знаю, что мне делать», «этот ребенок доведет меня до могилы»?
— Вмешиваетесь ли вы в отношения ребенка с другими детьми? (Например, ругая при нем его товарища, чьим поведением вы недовольны
Подобных вопросов может быть множество. В описанном выше случае беседы с мамой приводили только к оправданию своего ребенка, отрицанию своих ошибок, обвинениям окружающих. Причем все это происходило при сыне. «Мой ребенок, может, и не идеальный, но такого он точно не делал… (не говорил, и так далее)».
Нетрудно догадаться, какие выводы может сделать ребенок из такого «воспитания». Зачем ему что-то делать, работать над собой, исправляться, если самый авторитетный человек, родная мать, полностью его оправдывает? Хуже того, есть большой риск, что совсем скоро он перестанет нуждаться во внешнем источнике одобрения и начнет оправдывать себя сам, и этот путь, к сожалению, уведет его очень далеко от представлений о социально приемлемом поведении.
Так с чего же начинается личность? На первом этапе, разумеется с родителей. А позже на ее становление влияет общество — детский сад, школа, институт или колледж… Но первоначально то, что мы называем человеческими ценностями закладывается именно в семье, причем в самом раннем возрасте.
Человеческие ценности — фундамент личности, без которого любые профессиональные достижения могут обернуться своей темной стороной. Представим себе талантливого спортсмена, химика или художника. Без чётких представлений о добре и зле, хорошем и дурном, правильном и неправильном, первый запросто может превратиться в бандита, второй — организовать нарколабораторию, а третий — изготавливать подделки. Поэтому им, как и всем остальным, жизненно необходимы самодисциплина и понимание «красных линий», пересечение которых недопустимо. Это и есть воспитание.
И первый шаг на этом порочном пути — нежелание понять и признать свои ошибки, ложное чувство собственной правоты. Так закладывается тот деструктивный образ жизни, который ведет к трагедии. Не дать ребенку сделать этот шаг в самом начале жизни, значит уберечь от серьезных проблем и его самого, и тех, кто будет окружать его во взрослой жизни.
Многие годы наблюдая жизнь и быт различных семей я увидел, что зачастую дети повторяют ошибки родителей, перенимают их жизненный почерк — то, что в психологии называется «семейным сценарием». Но даже в самых неблагополучных семьях порой появляются дети, способные в самом начале жизни, столкнувшись с неподобающим родительским поведением, пообещать себе: «я не буду таким». Да, это случается куда реже, чем хотелось бы, но все же случается.
Однажды я проводил профилактическую беседу по выявлению курильщиков, и вдруг услышал от одного из мальчишек: «Я не буду как папа». Оказывается, его отец дымил, как паровоз. Уж не знаю, как оно сложилось в его жизни дальше, но на моей памяти он своё слово держал.
«Судьба или не судьба»
Система интернат-лицеев в определенной степени компенсирует отсутствие родительского внимания, но порой травмирует ребенка, если в результате он чувствует себя ненужным своей семье. Поэтому к подобной мере мы стараемся прибегать только в крайних случаях, о некоторых из которых я расскажу ниже.
Взрослые часто говорят: мол, жизнь в твоих руках, под лежачий камень вода не течет. И это, конечно, так — но вы попробуйте объяснить это девятилетнему мальчику, чей отец бросил их с мамой, когда ему не было еще и пяти, а у мамы из-за пережитого обострилось серьезное заболевание. Объясните это его старшей сестре, которой пришлось тянуть на себе всё хозяйство, да еще и помогать брату с домашними заданиями. Это невыдуманный случай — да и, в общем, не уникальный.
Эту семью мы поддерживали, что называется, всем миром — администрация села, различные фонды… Мать получала лечение, дети — материальную помощь перед началом учебного года. Результат получился совсем не тот, на который мы рассчитывали — вместо того, чтобы, несколько поправив здоровье, заняться детьми, найти хоть какую-то работу, мать стала привыкать, что все проблемы решаются безо всяких усилий с ее стороны.
Из беседы со старшей девочкой, я узнал, что летом она продавала яблоки, чтобы как-то прокормить себя и брата. В итоге, скрепя сердце мы были вынуждены принять тяжелое, но единственно возможное решение — направить ее в интернат. Мать болезненно восприняла такое предложение, посчитала, что мы собираемся отобрать детей.
К счастью, у этой девочки в интернате все сложилось хорошо. Летом ей помогли с работой в столовой, хозяйка которой помогала ей, в том числе и финансово. Но мать продолжала давить на дочь. Настаивала на том, чтобы ребенок вернулся обратно в семью. Посетила с теми же требованиями, и я обещал помочь после беседы с ребенком. Вот только девочка возвращаться не захотела. Сказала, что дома на нее давит мать, и нет возможности нормально учиться, а интернат с его режимом дня помог понять, насколько учеба важна. В общем, девочке нравится.
С ее младшим братом ситуация была сложнее. Всё вышеописанное изрядно травмировало его неустойчивую, не сформировавшуюся до конца психику. Он был настолько неустойчив эмоционально, что любая, казалось бы, мелочь надолго выбивала его из колеи.
Помню случай, когда во дворе школы бродячая собака отняла у него булочку. (Собак у нас много, как и везде в сельской местности.) Так вот, мальчишка просто разрыдался: ведь эта булочка была для него не просто мелочью, а лакомством, на которое он копил, да к тому же и единственной в тот день едой. К счастью, я оказался рядом, успокоил и решил вопрос с обедом, после которого мальчик примирился со своей потерей. Да и с той собакой впоследствии подружился.
Мальчик был очень славный, из тех, что называют «индиго». Был у него какой-то особенный взгляд на мир. Да и к учебе у него явно лежала душа. Каждый раз, когда я заходил к ним домой, меня поражало, насколько аккуратно сложены все его вещи, какой идеальный порядок на рабочем столе. К маме обращается за помощью только в крайнем случае, убедившись, что никак не справляется сам.
После того, как старшую дочь поместили в интернат, мать смогла уделять сыну достаточное количество времени, да и сама стала гораздо спокойнее. Есть надежда, что организованное благотворительными фондами лечение пошло впрок, и постепенно эта семья вернется к нормальной жизни.
Впрочем, бывают ещё более печальные ситуации.
Представьте: в доме нет ни горячей, ни даже холодной воды. Местами нет пола, только бетон. Одна из комнат просто завалена вещами. Прямо по стенам проложены электрические провода, некоторые из них оголены. И в этой обстановке живут двое детей, мальчик и девочка. Отца нет, мать месяцами отсутствует, воспитанием детей занимается бабушка.
Какое-то время она вполне справлялась с базовыми задачами: дети были накормлены, одеты, собраны в школу. К сожалению, на большее — например, следить за учебой — она, в силу возраста, была не способна. Учитель приложил немало усилий, чтобы мальчик окончил первый класс.
Но затем случилась новая беда: бабушка потеряла зрение.
Здесь, к сожалению, наши возможности подошли к своему пределу. Материальной помощью, которую охотно вызвались оказать соответствующие фонды, проблема не решалась. Фактически, лишенные элементарного ухода в семье, дети оказались в зоне риска. Встал вопрос об их переводе в интернат.
Конечно, это крайняя мера, и моя позиция такова, что её следует избегать до последнего. Сам факт того, что дети оказываются там при живых родителях, говорит об остром кризисе семейных ценностей и наличии в обществе серьезных социальных проблем. Дело здесь не в проблемах с образованием, а в создании работоспособных институтов, которые предупреждали бы распад семьи и ее деструктивное влияние на ребенка. Увы, наш мир несовершенен. И порой интернат — единственный выход для ребенка.
«Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом».
А. С. Макаренко
К сожалению, школа не всегда способна должным образом реагировать на всевозможные семейные проблемы своих учащихся, хотя мы прилагали все усилия, чтобы оказать им посильную помощь. И, тем не менее, я глубоко убежден, что ни одна система образования не сможет заменить институт семьи, компенсировать отсутствие родительского внимания. Здесь важен непрерывный процесс воспитания: «родитель — ученик — учитель — родитель». Именно в такой схеме, при тесном сотрудничестве школа и семья совместно создают Человека — настоящего, с большой буквы.
Наш мир не всегда бывает справедливым, и далеко не все испытания, обрушивающиеся на человека, им заслужены. Но я никогда не мог понять, почему самые суровые из них приходятся на долю невинных детей, подвергая их хрупкую психику серьезным угрозам.
Порой рано полученный отрицательный опыт может стать отправной точкой, оттолкнувшись от которой человек приходит к серьезному жизненному успеху. Например, классик педагогики И. Г. Песталоцци в детстве постоянно сталкивался с насмешками со стороны одноклассников и учителей, так как из-за особенностей характера считался слабо успевающим. Но именно этот неприятный опыт позволил ему принципиально пересмотреть подход к обучению детей и создать собственную систему, лежащую в основе всего современного образования.
Однажды судьба свела меня с одним актером, великолепным оратором, который признался, что много лет страдал из-за страха перед аудиторией, который появился у него в детстве. Еще в начальной школе, когда ему поручили прочитать стихотворение на утреннике, он столкнулся с насмешками своих одноклассников. После этого он наотрез отказывался от любых выступлений, хотя в глубине души продолжал мечтать о сцене. Мечта была так сильна, что став чуть постарше, он целенаправленно стал бороться со своей фобией — и, в конце концов, сумел одолеть ее.
Это истории с хорошим концом, но далеко не у каждого хватает сил, чтобы преодолеть детские травмы. Как правило, полученный в детстве негативный опыт сказывается отрицательно, уродуя всю последующую жизнь ребенка.
Школа — место, где встречаются дети самых разных семей, самого разного достатка и социального статуса. А учебная программа на всех одна. И цель одна — воспитать настоящих Людей, на которых можно будет с чистой совестью оставить этот мир. Поэтому здесь не бывает мелочей, поэтому учитель просто обязан вникать в каждую деталь, связанную с конкретным ребенком. Находить к каждому из них свой, индивидуальный подход — при всей той разнице, о которой сказано выше. Только на таких условиях может произойти Рождение Человека.
Однажды, в самом начале своей директорской карьеры, довелось мне заменять заболевшего учителя в одном из классов начальной школы. Тема урока — «умножение». Так получилось, что раньше мне не приходилось выступать непосредственно в роли учителя начальных классов, и на занятиях я до сих пор присутствовал лишь в качестве наблюдающей и контролирующей инстанции. Можно сказать, боевое крещение, как говорится — или пан, или пропал. Либо завоюю детское доверие, либо навсегда потеряю всякий авторитет.
Постоял несколько мгновений у дверей, вдохнул-выдохнул, зашел в класс.
Детишки, ясное дело, поглядывают на меня с любопытством, продолжая шушукаться. Ещё бы — сам директор пришел учить их математике! Подхожу к доске, оборачиваюсь, смотрю им в глаза. Умненькие, ясные, живые детские глаза, прекраснее которых нет ничего на свете.
Улыбаюсь: «Здравствуйте, дети!», а они мне вразнобой тянут: «Здра-авствуйте». Нет, говорю, так не пойдет. Давайте-ка еще раз повторим: «Здравствуйте, дети!» В ответ хором — громкое, звонкое «Здравствуйте!» Ура, первая задача решена.
Поскольку урок свалился на меня неожиданно, мне требовалось несколько минут, чтобы войти в курс дела. Слегка схитрил: предложил самостоятельно повторить заданный материал, а сам быстренько разобрался с классно-домашними тетрадями.
Пора переходить к решению задач, так что я с самым заговорщицким видом, понизив голос, честно признался, что с математикой у меня небольшие проблемы. Написал на доске несколько упражнений, под ними — свои варианты ответов, и попросил класс о помощи.
Дети в полном восторге. За последней партой темненький мальчишка не может сдержать смех и тихонько прыскает, закрывая рот ладонью. Соседи шепчут ему: «Тихо, тихо ты!». Многие наперебой кричат с мест: «Нет!», «Не верно», «Не так!»…. Оборачиваюсь к классу — и тишина. Только яркие, светлые улыбки на детских лицах. «Ну», — говорю. — «Может, кто-то поможет мне выбрать правильный ответ?» Поднимается лес рук.
Приглашаю к доске девочку. Подходит, важная от ответственности и доверия. Заявляет: «Вы неверно решили».
«Как же так?» — возмущаюсь я. «А ну-ка, бери мел, покажи мне». Девочка берет мел, зачеркивает мои неверные ответы, пишет правильный. Вызываю мальчика, история повторяется.
Оставшиеся примеры я предложил им решать вместе: в случае моей ошибки, вместе, громко и четко, называть правильное число. Снова пишу неверный ответ — вместо хора получаю разрозненный гул. Видимо, всё же, не всем в классе задание показалось легким. «Не слышу», — говорю. Со второй попытки правильный ответ (как сейчас помню, это было «восемь») произносят уже все. Весь класс молодцы, все победители! Такой способ решать примеры детям очень понравился.
Решаю рискнуть и вызываю к доске мальчика, у которого, судя по журналу, с математикой явные трудности. Так и есть — ошибается при умножении. Это-то не беда, этому мы научим. Куда хуже то, что его родные одноклассники, вместо того, чтобы помочь товарищу, начали смеяться и наперебой указывать на ошибку, чтобы отличиться перед директором. Этот момент показался мне куда более опасным, но я понимал, что чтением моралей и нотациями здесь не поможешь. Поэтому я предложил сделать по-другому: если отвечающий у доски допускает неточность, любой желающий в классе мог, подняв руку, вызваться ему помочь — подойти и шепнуть на ухо верный ответ. Воспользоваться «помощью зала» можно один раз, а обошедшийся без подсказки получает высший балл.
Как же я был удивлен результатом. Во-первых, совсем было поникший у доски мальчишка, расстроенный не столько своей ошибкой, сколько реакцией товарищей, буквально воспрял. Он поверил в свои силы! Искренне попробовал справиться самостоятельно! Да, чудеса в нашем мире случаются редко, и эта попытка успехом не увенчалась. Но когда он все же обратился за помощью к классу, это было его собственное решение. И он получил эту помощь — уважительно, а не унизительно.
После него на том уроке у доски побывало немало детишек. Кому-то задание давалось с легкостью, кто-то вынужден был прибегать к помощи друзей. Но в целом мне удалось осуществить свою задумку — показать, насколько мотивирует чувство, что рядом есть плечо, на которое можно опереться. Уверен, это гораздо важнее, чем даже такая необходимая в жизни вещь, как таблица умножения.
В завершение урока, когда до звонка оставались считанные минуты, я попросил детей встать и посмотреть друг в глаза. Посмотреть — и запомнить на всю жизнь, что помогать людям гораздо полезнее, чем насмехаться над ними. Конечно, если речь идет о настоящей помощи, приносящей действительную пользу.
На прощание я сказал: «Запомните, дети. Только сильный человек поможет ближнему. Только мудрый протянет руку помощи. Будьте такими, а все остальное обязательно приложится».
Перед уходом мы обнялись. «Саид Анзорович, вы придете завтра?» — спрашивали ученики. И в этот миг я снова влюбился в детей — в каждого из них.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
