
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ложь и дезинформация — надежное и испытанное оружие специальных служб и тайных сообществ
«Книжный мир с его изобилием точек зрения, принуждающим мышление к выбору и критике, сделался по преимуществу достоянием лишь узких кругов… Публичная истина момента, которая лишь и имеет значение в фактическом мире действий и успехов, является сегодня продуктом прессы. Истинно то, чего желает она… Всякому позволено говорить что хочет; однако пресса также свободна выбирать, обращать ей внимание на это или нет. Она способна приговорить к смерти всякую „истину“, если не возьмет на себя сообщение ее миру — поистине жуткая цензура молчания, которая тем более всесильна, что рабская толпа читателей газет ее наличия абсолютно не замечает… Это конец демократии».
(Освальд Шпенглер, «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории»)
В первом томе этой книги я уделил достаточно много внимания раскрытию сущности проводимых разведкой «активных мероприятий» и постарался схематично, но доступно для понимания широкой читательской аудиторией обрисовать роль наиболее известных на сегодня проводников их практического осуществления, известных под названием «агентура влияния». Давайте, однако, все же попробуем окунуться в проблему немного поглубже: понять, в частности, что лежит в основе этой специфической деятельности и оценить, насколько ощутимую пользу (или же, наоборот, вред) она приносит государству, которое его задумывает и осуществляет не в фантазиях патентованных «мэтров от конспирологии», а в условиях реальной действительности. Прежде всего, давайте посмотрим на данный вопрос с точки зрения существа самой идеи, на которой строится конкретное «активное мероприятие», в ее привязке к той основной цели, которую государство стремится достичь по отношению к своему противнику c помощью задуманного активного мероприятия. Как правило (и притом чаще всего) — это введение его в заблуждение относительно ваших истинных целей и намерений (иными словами — «дезинформирование» или «дезинформация», кому как привычнее) и своеобразное, ненавязчивое «подталкивание» противника к нужным или выгодным вам действиям.
В общедоступной справочной литературе «активные мероприятия» рассматриваются как открытые или тайные специфические операции разведывательных органов или служб, имеющие целью оказания выгодного влияния на представляющие интерес области политической жизни стран, их внешнюю политику, на решение международных проблем, на введение противника в заблуждение, на подрыв и ослабление его позиций, срыв его замыслов и достижение политических, экономических, военных и иных целей. В контрразведывательном лексиконе под «активными мероприятиями» обычно понимаются «мероприятия по созданию агентурных позиций в лагере противника и его окружении, ведению оперативных игр с противником, по дезинформированию, компрометации и разложению сил противника, выводу на территорию лиц, представляющих оперативный интерес, по добыванию разведывательной информации и т. д.».
С последним, то есть с, условно говоря, «контрразведывательным», определением я согласен не вполне. Ибо «работа по созданию агентурных позиций» в стане противника — это главная, базовая задача любой специальной службы, это самая прочная основа, самый надежный фундамент для ведения ею своей повседневной практической деятельности, без которых она просто не сможет осуществлять свою деятельность. Весь существуют же в природе так называемые безагентурные разведки государств, которые располагают всем необходимым потенциалом для организации и практического ведения работы либо непосредственно у себя или за рубежом, либо с территории «третьих стран», однако в силу каких-то особых. специфических условий проводимого данным государством политического курса его специальные службы добровольно отказываются от этого достаточно рискованного занятия, вполне довольствуясь радиоэлектронными и иными техническими средствами добычи информации, а также командами качественных, специально обученных и подготовленных аналитиков. В данном конкретном случае я хотел бы заострить внимание читателей лишь на одной специфической особенности проводимых спецслужбами «активных мероприятий»: даже если они построены на полном или частичном использовании абсолютно правдивых, проверенных и подтвержденных реальностью сведений (а это в реальных условиях тоже встречается довольно часто) всё равно в их основе лежит неправда, сиречь — ложь.
Существует в разведывательной историографии популяризаторского толка одна очень занимательная книга Е.Б.Черняка под названием «Пять столетий тайной войны». В ней проводится достаточно четкое разграничение между разведкой — получением секретной политической, военной и другой информации и контрразведкой как борьбой с неприятельскими агентами — и тайной войной, под которой подразумеваются различные виды подрывных действий, вплоть по провоцирования мятежей и организации государственных переворотов в стане врага. В этой книге приводится масса примеров т.н. секретной дипломатии, которые сегодня можно со спокойной совестью отнести к классике «активных мероприятий» разведки. На буйной и разносторонней активности признанного мастера политической интриги князя Шарля Мориса Талейрана-Перигора — известного французского взяточника-хапуги, эпископа-расстриги и «агента влияния» одновременно России и Австрии, чье имя стало нарицательным для обозначения хитрости, коварства и беспринципности в политике, я специально останавливаться не буду, читайте как о нем самом, так и о его многочисленных дипломатических «художествах» в трудах советского историка, академика Е.В.Тарле и в исторических повествованиях писателя В.С.Пикуля. В качестве характерного и очень наглядного примера удачной долговременной «активки» приведу лишь одно реальное звонкое дело из вышеуказанной книги — так называемое завещание Петра Великого, огромный взрывной потенциал которого эффективно сработал даже спустя два столетия после своего загадочного появления на свет.
Сегодня все хорошо знают, что знаменитые писатели Бомарше и Дефо одновременно были и выдающимися разведчиками своего времени, приложив свои талантливые руки и умные головы к успешному проведению целого ряда «тайных операций». Так, в 1704 году будущий автор «Робинзона Крузо» и тайный агент «тори» начал выпускать собственную газету «Обозрение дел во Франции», которая просуществовала целых девять лет! Эта газета внешне якобы отражала интересы «вигов» (либералов, представлявших интересы британской буржуазии), а на деле финансировалась из королевской казны и служила прикрытием для проведения в жизнь политической линии английской королевы Анны Стюарт. В тот период для Англии наиболее болевой точкой была проблема растущего шотландского сепаратизма. И поэтому с 1706 по 1714 год Д. Дефо совершил 17 поездок в эту бунтующую провинцию в целях формирования там нужного королеве общественного мнения. Он даже временно перенес в столицу Шотландии Эдинбург издание своего «Обозревателя», выпуская его по 2—3 раза в неделю. Тайная деятельность Дефо не прошла бесследно, и весной 1707 года парламент двух британских провинций стал единым. Кто скажет, что это не ярчайший пример удачно проведенного активного мероприятия в интересах британской короны?
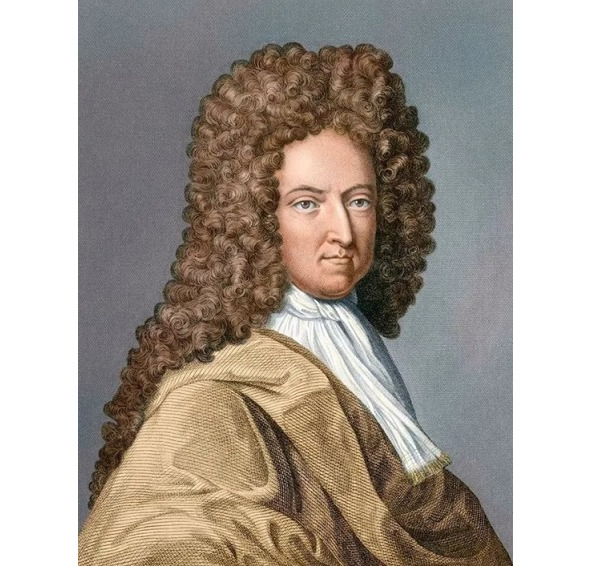
Вот как сам Даниэль Дефо характеризовал круг решаемых им задач в письме своему руководителю лорду Гарлею: «1. Быть в курсе всего, что предпринимается различными группировками против нашей унии, и постараться помешать их попыткам; 2. Беседуя со здешними жителями, а также с помощью других доступных способов склонять сознание людей в пользу единения; 3. Опровергать в печати всякие выступления, порочащие идеи союза, самих англичан, английский двор во всем, что касается того же союза; 4. Устранять всевозможные подозрения и беспокойства у людей относительно каких-то тайных происков против шотландской церкви». Это же типичная классика организации и проведения «активных мероприятий» в разведке!
А это уже выдержка из письма Дефо от 26 апреля 1718 года заместителю государственного секретаря Сантерленду: «Под видом переводчика иностранных новостей я вошел с санкции правительства в редакцию еженедельной газеты некого господина Миста с тем, чтобы держать ее под скрытым контролем, не давая ей возможности наносить какой-либо ущерб. Ни сам Мист, ни кто-либо из его сотрудников не догадывался, каково мое истинное направление… Благодаря такому же контролю, проводимому мной, и еженедельный „Дневник“ и „Дормерова почта“, а также „Политический Меркурий“, за вычетом отдельных промахов… на самом деле будут полностью обезврежены и лишены какой-либо возможности нанести ущерб правительству.»
Как он все это делал? Да очень просто. Дефо писал полемические статьи в 26 газетах и журналах самых разных направлений. Соответственно, и его статьи носили противоречивый и разнонаправленный характер. В одной газете он излагал свое мнение, в другой нападал на него, в третьей издевался над автором второй статьи, в четвертой… и т. д. вплоть до достижения требуемого результата Механизм достаточно простенький, но зато безотказный и очень эффективный в деле продвижения разного рода «активок». То-есть, с появлением средств массовой информации в любом их виде — начиная от избирательной агитационной листовки и заканчивая «высокохудожественной» телевизионной страницей какого-нибудь блогера или пранкера — мастырить «активки» стало столь же легко и просто, как печь на сковородке пирожки или блины. Вот вам в концентрированном виде весь тайный и сокровенный смысл так называемой четвертой власти СМИ, у которой обязательно, непременно наверху присутствует кто-то или что-то в образе реального хозяина — «кукловода»!
Сегодня абсолютно все «наиболее продвинутые» бытописатели славных деяний отечественной разведки считают своим священным долгом показать, помимо прочего, персональную осведомленность в знании базовых положений трактата древнекитайского стратега и мыслителя Сунь Цзы «Искусство войны». В частности, его концепции «управления врагом» (заманивать врага в подготовленные ловушки, избегать столкновений с хорошо подготовленным противником, обеспечивать неравновесное распределение имеющихся сил и их концентрацию на стратегически важном направлении, скрытый сбор любой полезной информации как о самом противнике, так и об особенностях местности, в которой он сражается, и пр.). В центре организации подобной активности у Сунь Цзы лежал следующий постулат: «Любой размер оплаты деятельности шпионов и лазутчиков обойдется значительно дешевле, чем содержание вооруженной армии, а посему нельзя жалеть денег на шпионаж и подкуп». Две принципиальные максимы, сформулированные Сунь Цзы в своем трактате: «Прибегай на войне к обману и добьешься успеха» и «Никого не следует награждать так щедро, как разведчиков. Ни с кем другим не следует хранить тайну столь же строго».
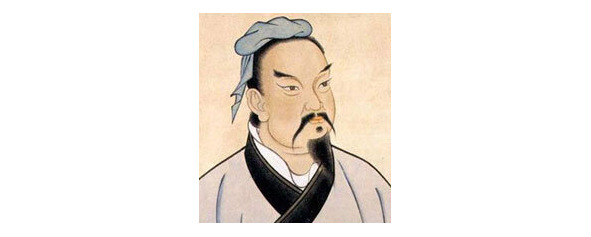
Я хорошо помню длинный историографический перечень основных научных трудов по искусству разведки, приведенный в учебнике курса «первой спецдисциплины» в Краснознаменном институте КГБ при СМ СССР. В период постижения азов разведки она действительно произвела на меня свое «положительно-воспитательное воздействие», но на сегодняшний день меня уже стали откровенно раздражать бесконечные перепевы в мемуарной литературе многими бывшими разведчиками и контрразведчиками одних и тех же достаточно банальных профессиональных баек. Вам что, уважаемые коллеги, уже и рассказать больше нечего общественно-полезного, профессионально значимого и познавательного для читателей из собственной боевой практики творческого использования техники и разнообразных приемов хотя бы тех же пресловутых «медовых ловушек»? К примеру, описанием интересных деталей организации бесчисленных подстав иностранным любителям «сладких блюд» балерин из кордебалетов Большого или Кировского театра, коль скоро вас уж так неудержимо тянет в сотый раз пересказывать в своих книгах героическую судьбу ветхозаветной «разведчицы-проститутки» Раав или филимистянской предательницы Далилы, вероломно остригшей волосы у силача Самсона?
Специалистам хорошо известна обширная монография бельгийского историка Анны Морелли вод названием «Элементарные принципы военной пропаганды», опубликованной ею в 2001 году. В этом исследовании со ссылкой на фундаментальный труд англичанина Артура Понсонби «Ложь во время войны», на политический памфлет француза Жоржа Демарсьяля «Война 1914 года. Как проходила мобилизация сознания», на его же брошюру «Ответственные за войну, патриотизм и правда» в систематизированном виде приводятся десять основных заповедей ведения пропаганды во время войны. Каковы эти принципы? Давайте перечислим их и слегка поразмыслим над прочитанным.
«- Мы не хотим войны, мы только защищаемся;
— Наш противник несет полную ответственность за эту войну;
— Лидер нашего противника изначально зол и похож на дьявола;
— Мы защищаем благородное дело, а не свои особые интересы;
— Враг целенаправленно совершает зверства; если мы совершаем ошибки, то это происходит без умысла;
— Враг использует запрещенное оружие;
— Наши потери малы, потери противника значительны;
— Наше дело поддерживают признанные интеллектуалы и художники;
— Наше дело свято;
— Тот, кто ставит под сомнение нашу пропаганду, помогает врагу и является предателем».
Критики, отмечая несомненные достоинства монографии А. Морелли, совершенно справедливо указывают на целый ряд недостатков и упущений. Так, автора не без оснований упрекают в полном отсутствии в данном труде исследования механизмов воздействия провозглашаемых пропагандой принципов на общественное и личное сознание граждан через СМИ, на преследование СМИ собственных политических или коммерческих интересов в ходе их практической реализации, на сознательном или неосознанном злоупотреблении ими доверчивостью и добропорядочностью собственных сограждан.
Есть, однако, гораздо более серьезный, на мой взгляд, научный труд под названием «Размышления о лжи» по тематике массированного, причем абсолютно осознанного и целенаправленного, задействования методик лжи и обмана как в условиях осложненной военно-политической обстановки, так и в обычной, «нормальной» общественно-политической жизни. Впервые эти размышления были опубликованы на французском языке в Нью-Йорке, в первом номере журнала «Ренессанс» — ежеквартальном выпуске французской «Свободной школы высших исследований» («École libre des Hautеs Études») за январь-март 1943 года. Затем, в июне 1945 года, то есть уже после Победы над фашизмом и национал-социализмом, они вновь появились в свет. На сей раз уже на английском языке в журнале Американского еврейского комитета «Современная еврейская летопись» под названием «Политическая функция современной лжи», что, как представляется, гораздо более точно и более емко отражает смысловую и тематическую направленность данной публикации. С чисто формальной точки зрения статья была посвящена в основном изучению природы лжи в условия господства тоталитарных режимов, в частности, в руководимых Гитлером в Германии и Муссолини в Италии. Однако здесь не все так просто и так однозначно, как это может показаться на первый взгляд.
Автором данной статьи был наш соотечественник Александр Койре, впоследствии получивший мировую известность как историк науки, один из создателей концепции «научной революции» XVII века. Наряду с другим выходцем из России, Александром Кожевом (Кожевниковым), он был видным популяризатором идей классической немецкой философии во Франции, одним из наиболее острых социальных мыслителей, соединившим немецкую традицию спекулятивной философии с французской традицией интеллектуальной публичности. Александр Вольфович Койра (Койранский) родился в 1892 году в Таганроге в семье торговца из Одессы, еврей по национальности, его отец был главой Российского общества колониальной торговли в Ростове, занимавшегося импортом чайной, бакалейной и москательной продукции. Во время революции 1905—1907 гг. Александр активно участвовал в деятельности местной ячейки партии эсеров, подозревался в участии покушения на губернатора Ростова-на-Дону. Был арестован и пробыл несколько месяцев в заключении. В 1908 году эмигрировал вначале в Германию, затем во Францию. Во время Первой мировой войны служил во французском Иностранном легионе, сражался на Восточном фронте. С восторгом встретил февральскую революцию, но затем сбежал от большевиков во Францию, где работал в парижской «École рratique des Hautеs Études». Приведем некоторые его рассуждения по указанной теме в статье «Размышления о лжи. Элиминация фактов как форма насилия» (в редакции перевода С.С.Шолоховой и А.В.Ямпольской в «Ежегоднике феноменологической философии» за 2013 год, приведенной на философском портале «Гефтер» в сентябре 2014 года). Посмотрим более пристально на отдельные ключевые тезисы этой статьи без какого-либо стремления вступать с ними в полемику..
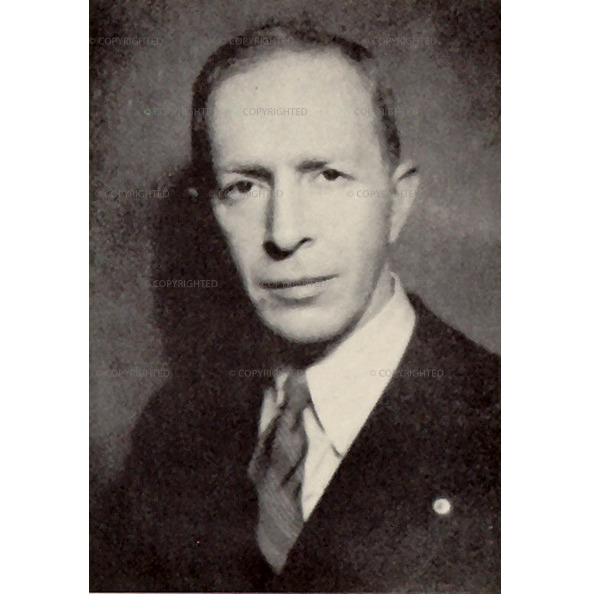
«Никогда не лгали так, как в наше время. Ни так нагло, ни так систематично и постоянно… Действительно, день за днем, час за часом, минута за минутой потоки лжи изливаются на мир. Речь, текст, газета, радио… весь технический прогресс поставлен на службу лжи. Современный человек — и здесь мы снова имеем в виду человека в эпоху тоталитарного режима — купается во лжи, дышит ложью, и подчинен лжи в каждый миг своей жизни… Понятие «ложь» предполагает понятие истины, противоположностью и отрицанием которой она является, так же как понятие ошибочного предполагает понятие верного… Официальные философы тоталитарных режимов отрицают ценность, присущую мысли, которая для них является не светом, а оружием. Ее цель, ее функции, говорят они нам, не в том, чтобы открывать нам реальность, т. е. то, что есть, но в том, чтобы помочь нам изменить эту реальность, преобразовать ее, ведя нас к тому, чего нет. Поэтому, как это было известно с давних пор, миф зачастую предпочтительнее науки, а риторика, адресованная чувствам, — доказательств, адресованных разуму…
Ложь выражается в словах и что всякое слово обращено к кому-то. Лгут не «в воздух» [в пространство]. Лгут — как и говорят или не говорят правду — кому-то. Но если истина действительно «кормилица души», то она прежде всего кормилица сильных душ. Для других же она может быть опасна. По меньшей мере в чистом виде. Она даже может их ранить. Необходимо ее дозировать, смягчать, прикрывать. Кроме того, необходимо учитывать последствия ее использования, учитывать, что она может принести тем, кому она будет сказана. Таким образом, нет общего морального обязательства говорить правду всем. И все не имеют права требовать этого от нас… Ложь — это оружие. Следовательно, ее использование в борьбе является законным. Было бы даже глупым не делать этого. Однако при условии использовать ее только против врагов и не оборачивать ее против друзей и союзников.
Поэтому, вообще говоря, можно лгать противнику и обманывать врага… Практически везде считается, что дезинформация допустима во время войны. Ложь не является рекомендованной в мирных отношениях. Однако (поскольку иностранец является потенциальным врагом) правдивость никогда не считалась главным качеством дипломатов. Ложь более или менее допускается в торговле: здесь также порядки навязывают нам границы, которые имеют тенденцию становиться все более и более узкими… самые строгие принципы торговли с легкостью допускают ложь, которая используется в рекламе.
Ложь остается, таким образом, допустимой и принятой. Но исключительно допустимой и принятой. В некоторых случаях. Исключением остается война, во время которой использовать ложь становится правильно и хорошо. Но что если война из состояния исключительного, эпизодического и проходящего превратилась бы в состояние постоянное и нормальное? Очевидно, что ложь из исключительного случая тоже стала бы нормальной, а социальная группа, которая видела бы и ощущала бы себя окруженной врагами, в любой момент, не колеблясь, использовала бы против них ложь. Истина для своих, ложь для других — это стало бы правилом, вошло бы в обычаи рассматриваемой группы.
Завершим разрыв между «мы» и «они». Преобразуем фактическую враждебность в неприязнь в некотором роде сущностную, фундированную в самой природе вещей. Сделаем наших врагов угрожающими и могущественными. Очевидно, что любая группа, помещенная в мир неустранимых и непримиримых противников, увидела бы пропасть между ними и собой. Пропасть, которую никакая связь, никакое социальное обязательство не могли бы преодолеть. Кажется очевидным, что для такой группы ложь — ложь для «других», разумеется, — не была бы ни просто допустимым поступком, ни даже элементарным руководством для общественного поведения, но она стала бы обязательной и превратилась бы в добродетель. А неуместная истинность, неспособность лгать, вместо того чтобы быть благородным принципом, стала бы недостатком, признаком слабости и недееспособности…
Отнимем у нашей группы возможность существовать автономно. Окунем ее целиком во враждебный мир посторонней группы, погрузим ее в центр враждебного общества, с которым она находится в ежедневном контакте: очевидно, что для рассматриваемой группы способность лгать станет тем нужнее и достоинство лжи будет тем ценнее, чем больше будет увеличиваться и возрастать интенсивность внешнего давления, напряжения между «мы» и «они», «их» неприязнь к «нам», «их» угрозы по отношению к «нам»… Исчезнуть фактически или, применяя в совершенстве технику и оружие лжи, исчезнуть в глазах других, ускользнуть от своих противников и скрыться под покровом тайны от угрозы с их стороны.
Теперь все наоборот: ложь для нашей группы, ставшей тайной группой, будет больше чем добродетелью. Она станет условием существования, ее привычным, фундаментальным и главным модусом бытия. В связи с самим фактом тайны некоторые характерные черты, присущие любой социальной группе как таковой, окажутся ярко выраженными и выходящими за любые рамки. Так, например, любое сообщество создает более или менее проницаемую и преодолимую границу между собой и другими. Любое сообщество сохраняет к своим членам привилегированное отношение, устанавливает между ними определенную степень единства, солидарности, «дружбы». Любое сообщество придает необыкновенную важность сохранению границ, отделяющих нас от «них», и, следовательно, защите символических деталей, которые в некотором роде формируют ее содержание. Любое сообщество, по крайней мере любое живое сообщество, рассматривает принадлежность к группе как привилегию и честь и видит в верности сообществу долг со стороны всех его членов. И, наконец, любое сообщество, поскольку оно укрепляется и достигает определенных размеров, предполагает определенную организацию и определенную иерархию.
Эти черты усугубляются в тайном обществе: граница, продолжая оставаться в определенных условиях преодолимой, становится непроницаемой. Доступ в сообщество превращается в необратимый акт посвящения. Солидарность превращается в страстную и исключительную преданность. Символы приобретают сакральную ценность. Верность сообществу становится высшим, иногда даже единственным долгом его членов. Что касается иерархии, становясь секретной, она также приобретает абсолютную и сакральную ценность. Дистанция между уровнями возрастает, авторитет становится безграничным, а подчинение perinde ac cadaver — правилом и нормой отношений между членами группы и ее руководителями.
И более того. Всякое тайное общество (которое может быть обществом доктрины или обществом действия), секта или заговор (впрочем, границу между этими двумя типами обществ достаточно трудно обозначить: общество, сконцентрированное на какой-либо деятельности, является или практически всегда становится обществом какой — либо доктрины), является обществом тайны или даже тайн. Мы хотим сказать, что даже в случае общества действия, как, например, гангстерская банда или кулуарный заговор, которое отнюдь не располагает какой-либо тайной или эзотерической доктриной, секреты которой оно было бы обязано охранять, скрывая их от глаз непосвященных, само существование такого сообщества оказывается неразрывно связанным с сохранением тайны и даже двойной тайны: во-первых, тайны ее существования, во-вторых, тайны ее целей и деятельности.
Из этого следует, что высший долг члена тайного общества, поступок, в котором выражается его преданность и верность этому обществу, поступок, которым утверждается и подтверждается его причастность к группе, состоит парадоксальным образом в сокрытии самого его факта. Скрывать то, что есть, и для этого изображать то, чего нет, — таков, следовательно, модус существования, который всякое тайное общество неизбежно навязывает своим членам. Скрывать то, что есть, изображать то, чего нет… Это предполагает, очевидно, не говорить (никогда) то, что думаешь, и то, во что веришь, и говорить (всегда) обратное. Фактически для любого члена тайного общества слово является лишь средством утаивать свою мысль.
Таким образом, все, что говорится, — ложно. Всякое слово, по меньшей мере всякое публично произнесенное слово, является ложью. Только то, что не говорят, или то, что по меньшей мере открывают только «своим», является или может быть истинным».
Пожалуй, достаточно цитирования труда Койре. По его твердому убеждению, «мысль, т. е. разум, различие между верным и ложным, решение и суждение — «это дело элиты, а не массы. Что касается последней, она не умеет думать. Или хотеть. Она умеет только подчиняться и верить. И она верит всему, что ей говорят. Лишь бы ей это говорили достаточно настойчиво. И только бы потворствовали ее страстям, ненависти и страхам. Таким образом, бесполезно стараться остаться по эту сторону границ правдивости: наоборот, чем больше, чем массовее, чем резче лгут, тем больше поверят и скорее последуют».
Койре вроде бы относил свои научные выводы главным образом к теории и практике тоталитарных режимов Гитлера и Муссолини, а на деле он смотрел на вещи гораздо шире, прямо связывая свои наблюдения с деятельностью любых тайных сообществ. «Свои» имеют право на истину, а «другие» — нет. Истина для своих, ложь для других — это стало бы правилом, вошло бы в обычаи рассматриваемой группы».
«Мы-они», «свои-чужаки», «друзья-недруги», «посвященные-профаны», «сакральное-профанное», «избранные-парии» — вопрос лишь в том, к какому из этих сообществ вы в данный момент времени принадлежите, если строго следовать теории Койре. «Отнимем у нашей группы возможность существовать автономно, окунем ее целиком во враждебный мир посторонней группы, погрузим ее в центр враждебного общества, с которым она находится в ежедневном контакте: очевидно, что для рассматриваемой группы способность лгать станет тем нужнее и достоинство лжи будет тем ценнее, чем больше будет увеличиваться и возрастать интенсивность внешнего давления, напряжения между «мы» и «они», «их» неприязнь к «нам», «их» угрозы по отношению к «нам» — эти рассуждения автора вас не наталкивают ни на какие мысли?
Койре далеко не случайно уделял повышенное внимание изучению поведенческих особенностей и иных важнейших элементов социологии тайных групп, тайных сообществ, сект и заговоров. В которых любое произнесенное на публику слово фактически является ложью, а истина всегда эзотерична, тщательно скрывается от окружающих и недоступна для публичного, вульгарного или профанного. Не случайно также и то, что одна из самых первых книг А. Койре носила название «Философия и национальная проблема в России начала XIX века». Она была посвящена разбору так называемой правительственной философии, концепта «духовного режима» как основы для будущего рождения знаменитой триады графа Уварова и феномена нарождавшегося славянофильства как особой вариации «консервативной утопии» в деле формирования национального самосознания русского народа. Снова на острие общественного внимания извечная «национальная проблема» в России…
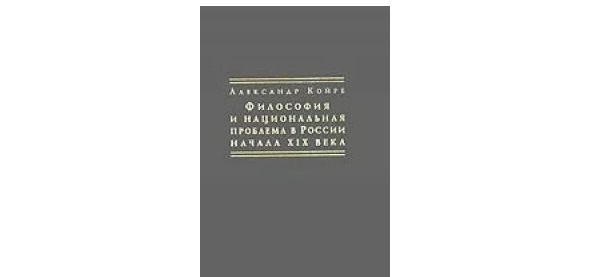
Думаете. мировую известность в довоенный период А. Койре заслужил публикацией своих многочисленных очерков по истории философской мысли и исследованию влияния различных философских течений в процессах прогрессивного развития науки и техники? Ошибаетесь, он стал широко известным и весьма популярным во Франции и в Германии после выхода в свет сделанного им немецкого перевода изданных Бернхардом Швертфегером «посмертных мемуаров» Максимилиана фон Шварцкоппена — одного из ключевых персонажей т.н. дела Дрейфуса.
Сами «Записки полковника Шварцкоппена» — яркий пример осуществленного кем-то специального мероприятия — были изначально опубликована во французской газете «Л’Ёвр» («Произведение») в июне 1930 года. В них Шварцкоппен, к тому времени уже тринадцать лет покоившийся в могиле (умер в январе 1917 года в чине генерала от инфантерии), «задним числом» якобы «самолично свидетельствует», что Альфред Дрейфус, дескать, никогда не являлся ни его агентом, ни осведомителем немецкого генерального штаба!
Вся эта история мне тотчас живо напомнила эпизод с «отысканием двух набитых битком чемоданов с записками Ивана Серова». Причем в творческой обработке известного думца — журналиста А.Е.Хинштейна, в силу чего в них почему-то совершенно внезапно обнаружились очень четкие, очень ясные и вполне правдоподобные ответы на многие актуальные и наиболее злободневные проблемы именно нынешней, быстротекущей политической действительности. Естественно, изложенные авторами в духе «эти тезисы под диктовку Серова записывал его зять, известный писатель Эдуард Хруцкий». Так, к примеру, нам всем стало, наконец-то, достоверно известным, что «Валленберг, как агент американской разведки, установил связь с сотрудниками германских спецслужб, а под видом ведения переговоров о судьбе евреев на оккупированных территориях на самом деле весьма успешно действовал неофициальный канал регулярной связи между гитлеровской и американской разведками».
Попробуйте-ка отразить ту же мысль в её «чистом», незамутненном виде без какой-либо привязки к содержимому «чемодана Серова» — вы тут же, сходу, буквально незамедлительно станете самым популярным и цитируемым человеком как в Швеции, так и в Израиле, правда, с очевидным знаком «минус». «Открыли нам всем глаза», впрочем, также и на то, что Н.С.Хрущев «хотел дело Валленберга, как и ряд других, использовать для того, чтобы освободиться от некоторых (?) членов Президиума ЦК, которые представляли для него опасность» — речь совершенно очевидно шла о членах широко известной из отечественной истории «антипартийной группировки», включая гротескный персонаж по фамилии «ипримкнувшийкнимШепилов».
Почему я счел уместным провести здесь исторические параллели между посмертными «записками Шварцкоппена» и посмертными «записками Серова»? Дело в том, что жанр «документы из чемодана» (из таинственного сундука с сокровищами графа Монте-Кристо, из полусгнившего снарядного ящика на поле боя, из ячейки ограбленного злодеями банковского хранилища, из сейфа на затопленном «Титанике» и пр.) в политической авантюристике различных стран хорошо известен и достаточно широко используется до сих пор в самых различных, порой весьма забавных житейских ситуациях фантазийно — конспирологического толка. Я напомню в этой связи лишь один подобный эпизод — достаточно темную и явно намеренно приглушенную историю со знаменитым «ленинским архивом ЦК».
В декабре 2017 года, в ходе очередной дискуссии на портале РНЛ по «екатеринбургским останкам» я вступил в оживленный диалог с известным исследователем этой темы из многострадальной ныне Одессы Виктором Ивановичем Корном (Корненко). Написал ему, в частности, следующее: «Хотите, позабавлю слегка всех любителей отечественной конспирологии? В своей научной статье «Оригиналы секретных договоров — на стол!» (http://observer.materik.ru/observer/N8_2008/087_105.pdf), написанной еще в 2008 году, я писал не только об «археологах-любителях» Рябове и Авдонине, но также и о Е.Д.Стасовой, близком соратнике В.И.Ленина. Цитирую пассаж из статьи: «А ведь покоятся еще где-то в уральской земле два металлических чемодана с «секретным архивом ЦК» и ленинскими документами, о существовании которых один из руководителей Секретариата ЦК Е.Д.Стасова, будучи уже почти в девяностолетнем возрасте, почему-то сочла необходимым «предупредить» работников Института марксизма-ленинизма лишь в начале 60-х годов прошлого века. Что в этих чемоданах находится — остается лишь гадать». Совсем недавно в СМИ начали вновь активно вбрасываться публикации, что это «тайное захоронение» находится на окраине Барнаула. И опять же, в основе ведущихся «любителями» поисков лежит очередная «записка Юровского №2» (говорю образно, просто схема «вброса» примерно такая же, как и в случае с «екатеринбургскими останками»).
Существование такого архива ЦК — исторически установленный факт, подтвержденный учеными и работниками партархива. А вот дальше пошли сплошные домыслы: и по времени переправки «чемоданов» на Урал (то, что они переправлялись через Екатеринбург — тоже подтверждается сведениями из целого ряда архивных источников, в том числе и местных), и по персоналии самого «курьера». По одним данным — дело было в марте-апреле, а вот по другим — уже в ИЮЛЕ 1918 года.
Чуете, чем тут дело пахнет? Голощекиным, не иначе, и это допущение вполне возможно. Известно, что это был некий «надежный товарищ, приехавший в Москву с Урала». Называют, правда, две фамилии руководителей Алтайской парторганизации того периода, один из них был чуть ли не слушателем ленинской школы в Лонжюмо. Оба были расстреляны белогвардейцами, но шофер одного из них якобы сказал своему внуку «здесь закопали» и показал место. Внук в 60-е годы якобы упорно обивал пороги крайкома КПСС, но ему не верили и опасались подвоха. И еще точно известно, что в этом «архиве» были два типа документов: одни — материалы В.И.Ленина, другие — Я.М.Свердлова. Поскольку возня вокруг этого «чемодана» возникла именно в то же время, что и фиксация А.Н.Яковлевым «воспоминаний цареубийц», невольно напрашивается мысль, а нет ли какой-то связи между двумя этими событиями? Лично я был почти уверен, что эти «ленинские чемоданы» отроют из-под земли аккурат к 100-летию Великого Октября. Но, по-видимому, нужное время «для их отыскания» еще не пришло…».
Давайте-ка вместе более пристально посмотрим на первоисточник и источник опубликованных во Франции в 1930 году «записок Шварцкоппена». Первоисточник — немецкий военный историк, сотрудник МИД Германии и Центрального управления по исследованию причин войны (Первой мировой — авт.), специалист по вопросам «жизненного пространства Германии» Бернхард Швертфегер, управляющий поместьем покойного Максимилиана фон Шварцкоппена, почему-то представляемый в современной исторической литературе в качестве его преемника на посту военного атташе Германии во Франции. Источник — парижская газета «Л’Ёвр» («L’Œuvre»), основанная в мае 1904 года (то есть, чуть-чуть позднее даты рождения газеты «Орор») журналистом Гюставом Тери — известным активистом движения «дрейфуссаров». Название выпущенного им таблоида вовсе не случайно совпадало с оглавлением 14-го тома романов из знаменитого цикла «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи». Автор этой многотомной эпопеи о семействе Ругонов — талантливый французский писатель и стойкий, убежденный антиклерикал Эмиль Золя. Именно он был автором всемирно известной статьи «Я обвиняю!», опубликованной в специально созданной в связи с «делом Дрейфуса» будущим премьер-министром Франции, уроженцем Вандеи Жоржем Бенжаменом Клемансо газете «Орор», буквально взорвавшей Францию тех времен!
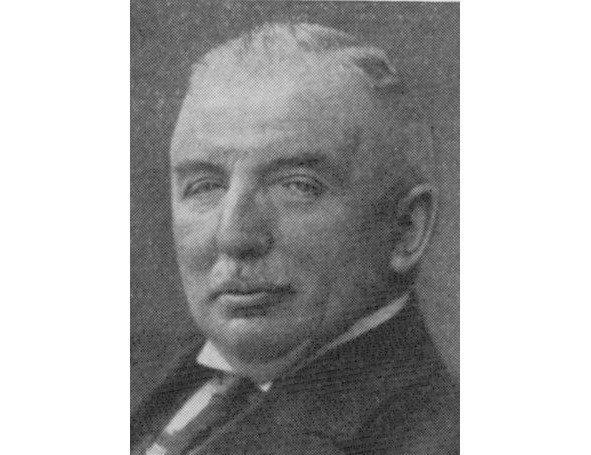
Гюстав Тери — фигура явно неординарная даже по меркам тогдашнего социально-литературного измерения, поскольку он легко и играючи бросался из одной политической крайности в другую. Так, основным рекламным девизом издаваемой им газеты якобы был слоган «Дураки не читают «L’Œuvre»! На деле же, согласно утверждению писателя Льва Полякова в разделе «Европа на пути к самоубийству» из книги «История антисемитизма. Эпоха знаний», оригинал размещенного газетой рекламного объявления, относящийся к 1911 году, гласил: «Ни один еврей не подписался на «L’Œuvre».
Разницу в незаметном для порядком замыленных пропагандой глаз смещении интонации и ударения в произнесенном Л. Поляковым все же, надеюсь, почувствовали? Помимо прочего, Густав Тери также имел самое прямое и непосредственное отношение к триумфальному становлению во Франции наиболее скандальной сатирической газеты «Канар аншене» — традиционного и наиболее эффективного на протяжении целого века «сливного бачка» политических помоев, рожденных в недрах французских спецслужб. Его пресловутая «Л’Ёвр», а, тем более, известная во всем мире «Канар аншене», которая по степени скандальности является аналогом знаменитой ныне «Шарли эбдо» — всё это классические каналы для осуществления активных мероприятий с участием специальных служб самых разных стран, специалистам здесь и толковать-то более не о чем…
Я вовсе не намерен в «–тысячный» раз пережевывать общеизвестные факты из так называемого дела Дрейфуса, реально поставившего Францию на грань ожесточенной гражданской войны. Хотел бы привлечь внимание читателя лишь к двум характерным особенностям страниц этой исторической драмы, трагедии и, отчасти, даже комедии. А именно — опасности разрастания воинствующего национализма для ослабления единства страны и ожесточенного противоборства разведывательных и контрразведывательных структур внутри собственной страны. В этом противоборстве конкурирующие подразделения специальных служб преследовали порой диаметрально противоположные цели, и в силу данного обстоятельства их противостояние внешне выглядело лишь как борьба за влияние в военно-политической верхушке двух наиболее мощных политических группировок и связанных с ними тайных сообществ. Применительно к «делу Дрейфуса» — противоборства постоянно снижающегося в политическом весе союза клерикалов и иезуитов с одной стороны и крепнущей совокупной мощи стремительно растущего числа сторонников перерождающихся в политический сионизм Т. Герцля многочисленных еврейских движений типа «Ховевей Цион» при мощной финансовой поддержке «синдиката» в лице французского барона Эдмона Ротшильда, немецкого барона Мориса Хирша и английского баронета Мозеса Монтефиоре — с другой. Постараюсь наглядно показать случаи наиболее активного задействования противоборствующими сторонами испытанных методик лжи и обмана (и не только по теории Койре) как очень эффективного оружия для нанесения чувствительных ударов по своему противнику.
С политической точки зрения т.н. дело Дрейфуса совершенно очевидно явилось своеобразным «непрямым ответом» на три грандиозных общественно-политических скандала во Франции. Первые два, несшие в себе вполне реальную угрозу возникновения системного внутриполитического кризиса, следующие: попытка государственного переворота в 1989 году генерала-реваншиста Жоржа Эрнеста Буланже, якобы покончившего с собой в изгнании прямо на могиле своей любовницы на Иксельском кладбище в Брюсселе в 1891 году, и дерзкое убийство кинжалом посреди белого дня в Лионе в июне 1894 года итальянским анархистом Санте Джеронимо Казерио 5-го президента Франции Мари Франсуа Сади Карно якобы в знак протеста против казни французских террористов Огюста Вайяна и Эмиля Анри (кстати, очень показательным выглядит тот факт, что подрывника-террориста Вайяна защищал знаменитый парижский депутат, журналист и адвокат Фернан Лабори — впоследствии один из двух основных адвокатов Альфреда Дрейфуса и адвокат писателя Эмиля Золя).
Третий, наиболее громкий и наиболее резонансный — 1892—1893 гг., был связан с участием еврейского банкирского сообщества (позднее окрещенного как «синдикат») в международной коррупционной афере вокруг строительства в 1889 году Панамского канала. Вовсе не случайно, что одно из главных действующих лиц скандала — банкир Жак де Рейнак (Якоб Адольф Рейнах) внезапно покончил с собой, но перед своей смертью он передал список подкупленных аферистами депутатов Национальной ассамблеи именно Эдуарду Дрюмону, редактору газеты «Свободное слово» и будущему лидеру движения антидрейфуссаров. Племянник и зять де Рейнака Жозеф, сын банкира Хермана Рейнаха — французский политик, директор кабинета премьер-министра Л. Гамбетта и политический редактор основанного им журнала «Французская Республика», автор наиболее полного до сей поры исследования под названием «История дела Дрейфуса» в семи томах, а также научной публикации о кровавом навете во Франции 17-го века, в результате которого в Лотарингии был осужден и сожжен Рафаэль Леви. Его брат-археолог Саломон являлся видным деятелем движения дрейфуссаров, еще один брат — адвокат и историк Теодор был одним из главных защитников А. Дрейфуса, членом центрального комитета «Общества еврейских исследований», написал «Историю евреев со времен рассеяния до наших дней», а также «Краткую историю дела Дрейфуса».
Мне довелось побывать и в Эльзасе, и в Лотарингии, причем неоднократно, и в итоге у меня сложилось стойкое впечатление, что богатая железной рудой Лотарингия — это, несомненно, преимущественно Франция, причем ярко окрашенная в весьма специфические тона польского короля-изгнанника Станислава Лещинского. В то же время швейцарскоподобный Эльзас — типичная алеманская рейнская провинция, насквозь пропитанная неистребимым германским духом с тотальным этническом преобладанием именно немецкого населения. Эта территория бывшего герцогства с одноименным названием стала прямым детищем известного из истории Вестфальского мира в Тридцатилетней и Восьмидесятилетней европейских войнах. Этот мирный договор некоторые скорые на поспешные обобщения и беспочвенные аналогии отечественные «геополитики» и «политологи» сочли для себя уместным расценивать как начало зарождения «первой договорно узаконенной дипломатической системы миропорядка», наряду с общепризнанными системами Вены, Версаля и Ялты-Потсдама (а теперь еще и Беловежья…).
Это далеко не так, ибо участие в тогдашнем «геополитическом разделе Европы» приняла сравнительно небольшая часть государств континента. Те же Англия, Польша, Литва, Оттоманская Порта, Португалия, Россия, Валахия, Крымское ханство и другие страны в этом процессе никак не участвовали, а сам Вестфальский договор во многом носил характер не столько межгосударственного, сколько, скорее, межконфессионального регулирования. А знаменитый принцип «вестфальского суверенитета» (равенства прав на исключительный суверенитет над своей территорией), положенный, кстати, в основу деятельности ООН, сегодня выглядит как откровенный исторический атавизм ввиду повсеместного и злостного его нарушения.
Большинство современных исследователей делают, на мой взгляд, неоправданно смещенный упор прежде всего на этнических корнях Адольфа Дрейфуса. В то время, как в условиях очень неоднозначной исторической ситуации 90-х годов XIX века следовало бы обратить свой пытливый взор в основном в сторону понимания особенностей восприятия населением того региона, в котором он родился и вырос, своей национально-государственной идентичности. Почему акценты смещены именно в сторону этнического происхождения главного героя, долго гадать не придется — «дело Дрейфуса» это столь же вечная и нескончаемая тема, как и исторические легенды и сказания об Агасфере («Вечном Жиде»), берущие свое начало аж в 13 веке.
То, что на бульваре Распай в Париже сравнительно недавно воздвигли памятник А. Дрейфусу с очень символическим обломком офицерской шпаги в руке (ранее статуя размещалась в саду Тюильри, а копия этой статуи находится в центре внутреннего двора Музея истории и искусства иудаизма в фешенебельном особняке Сэнт-Эньян парижского квартала Марэ («Лужа», «Болото») — это неудивительно, все основные действия данного исторического события разворачивались в основном в Париже. Хотя другая копия этого же памятника — у дома №1 на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве (Израиль) — уже вполне недвусмысленно представляется публике не как акт торжества юридической справедливости, а как «символ борьбы с мировым антисемитизмом». Но зачем нужно было через сто лет, в 1998 (!) году в честь А. Дрейфуса со скандалом устанавливать мемориальную доску на здании Эколь милитэр на Марсовом поле, настойчиво пытаться похоронить его останки в Пантеоне рядом с могилой Эмиля Золя, а в 2019 году на правительственном уровне еще и всерьез рассматривать вопрос о посмертном (!) присвоении Адольфу Дрейфусу чина бригадного генерала — это уже за гранью понимания и обычного здравого смысла…

Как известно, согласно франкфуртскому мирному договору от 10 мая 1871 года за жителями Эльзаса и Лотарингии закреплялось право на сохранение французского гражданства и свободного переселения в другие регионы Франции при условии соответствующего уведомления местных властей до 1 октября 1872 года. Следует особо подчеркнуть, что 2-я статья Договора предоставляла французам из Эльзаса и Лотарингии право оптации во Францию с сохранением их недвижимого имущества! То есть, речь шла не о каких-то беженцах или вынужденных переселенцах, а о свободном выборе своего гражданства или подданства по известному житейскому принципу: «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше». Дословно это звучало так: «Статья 2. Французские подданные, уроженцы уступаемых территорий и ныне проживающие на этой территории, которые пожелают сохранить французское гражданство, будут пользоваться до первого октября 1872 года, по предварительному заявлению о том надлежащим властям, правом перенести свое местожительство во Францию и обосноваться там, причем это право не может быть умалено законами о военной службе, в каковом случае за ними будет сохранено состояние во французском подданстве. Они будут иметь право сохранять за собой недвижимости, расположенные на территории, присоединяемой к Германии. Никакой житель уступаемых территорий не сможет подвергаться преследованию, беспокойству либо ущемлению своей личности или имущества за свои политические или военные действия во время войны».
И еще одно интересное положение этого Договора, содержится в статье 6: «Еврейские общины на территориях, расположенных к востоку от новой границы, не будут более подчинены еврейской центральной консистории, пребывающей в Париже». Тем самым ликвидировался один из наиболее важных каналов регулирования отдельных видов деятельности, прежде всего ростовщической, осуществлявшихся в тот период членами еврейских общин Франции исключительно по рекомендациям местных консисторий при условии выдачи ими гарантий честности евреев-лицензиатов, введенных Наполеоном I в 1808 году в рамках целой серии законодательных актов об эмансипации евреев в этой стране.
Знаменитые наполеоновские декреты от 17 марта 1808 года, аннулировавшие, сокращавшие размер выплат ростовщикам или предоставлявшие право на отсрочку возврата кредита в условиях 10-летнего запрета на любой вид еврейской деятельности по кредитованию касались прежде всего евреев Эльзаса, ограничивая, помимо прочего, их право на свободу миграции по стране. В одном из этих законодательных актов прямо содержалось требование, чтобы евреи служили во французской армии без какой-либо возможности обеспечить себе замену (ранее в законах о рекрутском наборе существовали системы заместительства и жеребьевки, допускавшие возможность уклонения от военной службы). После аннексии Эльзаса Германской империей многие евреи этой провинции, в том числе и семейство А. Дрейфуса, предпочли мигрировать внутрь страны, спасаясь от более жестких по отношению к ним прусских порядков Бисмарка, однако свои прочные эльзасские исторические корни по-прежнему сохраняли неприкосновенными.
Судя по всему, семейство Дрейфусов по итогам франко-прусской войны фактически разделилось на две части: по отрывочным данным, Альфред и его брат переехали из Базеля (Швейцария) во Францию, возможно вместе со своей матерью Жаннет Дрейфус (урожденной Либман), в то время как его отец — крупный фабрикант текстиля Рафаэль Дрейфус из города Мюлуз (Мюльхаузен) вместе с другими семью братьями и сестрами остались в жить Эльзасе, на границе со Швейцарией. Во всяком случае, известные обвинения в изменнических настроениях в адрес Альфреда посыпались вскоре после его поездки в Эльзас на похороны отца в декабре 1893 года.
Внимательно посмотрим на основную, центральную фабулу «дела Дрейфуса» — на содержание письменного обращения какого-то неизвестного «шпиона-инициативника» в адрес резидента германского разведки в Париже полковника Шварцкоппена. Вот полное содержание перехваченного французской контрразведкой «бордеро» (письма-описи) этого анонима. «Не имея информации о том, желаете ли Вы меня видеть, я, тем не менее, посылаю Вам, мсье, некоторую интересную информацию, а именно: 1. Заметки о гидравлическом тормозе орудия 120-го калибра и о том, как работает это оружие. 2. Заметка о „воинских формированиях прикрытия“. 3. Записка об изменениях в структуре артиллерийских формирований. 4. Записка о положении на Мадагаскаре. 5. Прилагаемое руководство по стрельбе из сборника руководства по артиллерии от 14 марта 1894 года. Последний документ чрезвычайно трудно достать, и я могу иметь его в своем распоряжении всего несколько дней. Военный министр распространил в войсках ограниченное количество экземпляров, и каждый корпус несет за них свою ответственность. Каждый офицер, у которого есть копия, обязан вернуть ее после окончания маневров. Поэтому, если из всего этого что-то Вас заинтересует и Вы возвратите мне данный материал как можно скорее, я смогу получить его в свое распоряжение. Если только Вы при этом не предпочтете, чтобы я скопировал что-то из них полностью и отправил Вам копию. Вскоре я отбываю на маневры».
Вне зависимости от персоналии истинного автора этого послания, конкретного содержания проведенных французской контрразведки оперативных мероприятий по его розыску и разоблачению, весомости или ошибочности доводов участников многочисленных графологических экспертиз и прочих деталей проведенного следствия, ясно одно: эти документы действительно были секретными, а отчет о новой французской 120-миллиметровой гаубице и, особенно, о конструкции ее гидравлического возвратного механизма (гидропневматического тормоза), равно как и закрытая документация по организационной структуре французской полевой артиллерии представляли значительный интерес для германского военного руководства. Свидетельством тому явилось письменное указание руководства немецкой разведки своему резиденту в Париже об обязательном и непременном приобретении этих документов за денежное вознаграждение. «Танцевать» необходимо все же «от печки», от содержания похищенных немцами документов, а не от особенностей национального происхождения Дрейфуса или Эстерхази.
Дрейфус имел артиллерийское образование, служил в артиллерийских частях, в 1889 году был назначен адъютантом начальника Буржского государственного арсенала — одного из четырех ведущих французских государственных военных центров (Мёдон, Шательро, Брест и Сент-Этьен) по производству и испытанию новых артиллерийских систем. В частности, серии орудий нарезной казнозарядной артиллерийской системы де Банжа с французским «know-how» тех времен — гидравлическим тормозом компании Сен-Шомон. То есть, в отличие от великосветского хлыща графа Шарля Вальсен-Эстерхази, офицера пехоты и переводчика военного министерства, Дрейфус действительно имел обширный доступ к документации по наиболее интересному для немцев вопросу, упомянутому в перехваченному французской контрразведкой рукописном меморандуме. Все остальные соображения на сей счет носит уже второстепенный и во многом привходящий характер, поэтому чьи-то попытки «приплести к делу» какого-то невнятного агента-авантюриста по фамилии Жак Дюбуа (во французском языке это примерно обозначает то же, что в российском «Иванов» или «Сидоров», то есть «кто-то») лишены весомого смысла.
Вообще-то, строго говоря, бардак во французском генштабе в связи с предполагаемым исчезновением с поля зрения военного руководства и контрразведки ряда важнейших секретных документов, включая планы мобилизационного развертывания вооруженных сил Франции на случай войны, был зафиксирован еще до появления на свет пресловутого «бордеро» Дрейфуса-Эстерхази. Причем шпион так и не был обнаружен, а какой-либо привязки пропавших в генштабе документов к фигурантам «дела Дрейфуса» не отмечалось. Следовательно, настоящий источник получения немцами секретной информации из французского военного ведомства так и не был выявлен или разоблачен.
Кроме того, с точки зрения поведения опытного разведчика-агентуриста, этот знаменитый пруссак в чине полковника по фамилии Шварцкоппен являлся большим шутником и даже откровенным клоуном, если не сказать проще — явным болваном. Мало того, что он это злосчастное «бордеро» не то от Дрейфуса, не то от Эстерхази рвет на крупные куски и бросает в корзину для мусора, вместо того, чтобы его уничтожить полностью, без остатка, так он еще вдобавок ко всему, находясь под наружным наблюдением (иначе — под слежкой) отправляет по почте «пневматичку» (petit-bleu) на имя «своего агента» Эстерхази.

Обычная шпионская история с развернувшимся скандалом в генштабистских и спецслужбистских кругах Франции превратилась в настоящее политическое дело лишь после того, как к нему подключился французский публицист, литературный критик и общественный деятель еврейского происхождения известный анархист Бернар Лазар (Лазарь Маркус Манассе Бернар), автор брошюры «Антисемитизм, его история и причины». Летом 1895 года он предал гласности материалы, полученных от старшего брата А. Дрейфуса, директора текстильной фабрики в Мюлузе (Эльзас), а в ноябре 1896 года выпустил брошюру «Судебная ошибка: правда о деле Дрейфуса». Это и стало отправной точкой очень масштабного комплексного активного мероприятия с участием специальных служб многих европейских государств, в том числе и России, за которым вполне очевидно маячили политические и экономические интересы мультинационального семейства Ротшильдов.
Именно Ротшильды получили эксклюзивные права на финансовое обслуживание контрибуции в размере 5 млрд. французских франков в золоте или в равноценных золоту прусских. английских, бельгийских, голландских и пр. ценных бумагах, наложенной Германией на побежденную Францию по результатам Франкфуртского мирного договора 1871 года. То, что жители Франции выплачивали по правительственным займам (пятипроцентные ценные бумаги по подписке и трехпроцентные рентные бумаги на бирже) в качестве покрытия наложенных на их Отечество денежных репараций, семейство Ротшильдов просто перекладывало из одних своих семейных карманов (парижско-лондонских) в другие (франкфуртско–венские-неапольские) «широких штанин» банков-эмитентов. По имеющимся оценкам, только в виде комиссионных за обслуживание предоставляемых банковскими консорциумами («синдикатами») денежных займов, положивших, кстати, начало эпохе господства золотого стандарта в международной банковской сфере, парижский банкир Альфонс Ротшильд за три года получил прибыль в размере 80 млн. франков комиссионных от операций по займу и доходов от капитала в связи с ростом стоимости выпущенных им рентных бумаг.
«Дело Дрейфуса» стало «делом» вовсе не после осуждения в декабре 1894 года некоего офицера-еврея по обвинению его в государственной измене и в передаче секретных сведений германской разведке. Это событие еврейское сообщество страны как бы слегка всколыхнуло, но не так уж, чтобы слишком встревожило. Данное «дело» в его нынешнем политическом измерении, в современной интерпретации происшедших событий началось лишь тремя годами спустя, в ноябре 1897 года. А именно с момента опубликования газетой «Фигаро» подборки личных писем офицера-аристократа венгерского происхождения из знатного австро-венгерского рода Фердинанд Вальсен-Эстерхази свой кузине и отвергнутой любовнице госпоже де Буланси, в которых тот якобы откровенно расписывался в своей патологической ненависти к Франции и к французам. В выражениях типа «я не способен обидеть и щенка, но я с удовольствием перебил бы сто тысяч французов… Париж, взятый штурмом сотней тысяч пьяных солдат! Вот праздник, о котором я мечтаю!». Или «наши великие военачальники, трусы и невежды, еще насидятся в германских тюрьмах». В действительности же подобные вызывающе громкие пассажи из личных писем Эстерхази можно было бы не без основания трактовать скорее как упреки всему тогдашнему французскому обществу некоего «ультра-патриота» Франции, по-прежнему испытывающего глубокий стыд и позор перед лицом трагедии в Седане, которую, кстати, он пережил лично.
Это был первый точно рассчитанные и во-время нанесенный удар, сопровождаемый прямыми обвинениями Эстерхази в шпионских связях со М. Шварцкоппеном и А. Паниццарди. Затем последовало возбуждение братом А. Дрейфуса эльзаским промышленником Мэтью дела (?) против Эстерхази по обвинению последнего в государственной измене, потом состоялся трибунал над подозреваемым (кстати, по его собственному требованию) и его полное оправдание. Потом имело место довольно неожиданное возвращение контрразведчика подполковника Пикара из фактической ссылки в Тунис, куда он был отправлен в декабре 1896 года, его открытое вступление в альянс с братом Дрейфуса, вице-президентом Сената Шерер-Кестнером и политиком Жоржем Кламансо, а также передача им некоторых материалов, использованных впоследствии Эмилем Золя в своей статье в газете «Орор». И, наконец, судебный процесс над самим писателем с признанием последнего виновным в предъявленных ему обвинениях в диффамации и оскорблении армии. Вот с этого времени «дело Дрейфуса» поистине становится неким знаменем, призывом, настоящим острием борьбы «против антисемитизма» во Франции!
В «тайной войне» всегда, причем постоянно и повсеместно, идет сражение, прежде всего, лучших философских умов противоборствующих сторон. А сотрудники специальных служб различных государств являются всего лишь ремесленниками, выполняющими наиболее «грязную», черновую часть общей работы в интересах либо своих государств, либо каких-то сообществ единомышленников, в том числе и тайных. В политическом плане «дело Дрейфуса» явилось своеобразным генеральным сражением в широко развернувшейся ожесточенной борьбе двух идеологий — национальной и наднациональной (в современной политической терминологии — мондиалистской) — и в этой решающей битве последняя нанесла своему основному идейному противнику сокрушительное поражение, причем на долгие, долгие годы и даже десятилетия. Но с точки зрения деятельности специальных служб это «дело» было самой обычной, хотя и очень широкомасштабной классикой организации и проведения целого комплекса многовекторных активных мероприятий с использованием самого разнообразного инструментария из богатейшего арсенала разведок, контрразведок и разного рода тайных сообществ, прежде всего — масонских.
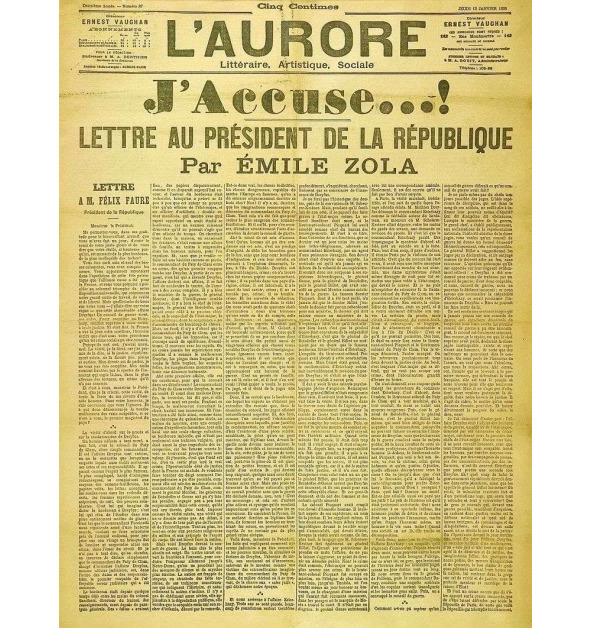
На почетных местах в этом инструментарии стоят ложь, обман, подмена документов, их фальсификация, подкуп, угроза, запугивание, диффамация в СМИ, ликвидация неугодных свидетелей и нежелательных улик и пр. Но главное — «дело Дрейфуса» целиком базируется на активном задействовании ранее не существовавшего в политике феномена под названием «антисемитизм». «Дело Дрейфуса» и «антисемитизм» спустя столетие уже устойчиво превратились в синонимы, в смысловые понятия одного и того же порядка. Так же, как известное российское «дело Бейлиса» 1913 года постепенно трансформировалось в некий синоним злобного «кровавого навета», причем не только «русского великодержавного шовинизма». Как позднее говорил по несколько иному, но весьма сходному поводу, В.В.Маяковский — «Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин»…
«Дело Дрейфуса» от начала и до конца, целиком и полностью покоилось на лжи, манипуляциях, подтасовках, многочисленных грязных и порой необоснованных обвинениях. Оно вызвало появление в современной общественно-политической лингвистике целого ряда новых понятий и терминов, ранее в философских трудах не встречавшихся. Так, согласно исследованиям французского историка Кристофа Шарля, понятие «интеллектуалы» вошло в широкий обиход после того, как один из главных антидрейфуссаров — Морис Баррес, публично расценил коллективную петицию в поддержку основных тезисов открытого письма Э. Золя Президенту Франции Ф. Фору как «Протест интеллектуалов». Сам термин «антисемитизм» в широкий публичный оборот во второй половине XIX века запустил немецкий журналист и публицист Вильгельм Марр, заменивший им ранее употребляемые выражения «антииудаизм» и «юдофобия». В 1880 году он опубликовал свой памфлете «Путь к победе германства над еврейством» (просьба не спутать В. Марра с его однофамильцем, советским академиком языкознания, вице-президентом АН СССР Н.Я.Марром, с которым вел заочный диалог и даже дискутировал сам И.В.Сталин). А после «дела Дрейфуса» придуманный Марром термин стал уже общеупотребительным. Кстати, сам новый жанр «политического памфлета» приобрел второе дыхание после известных заметок французского адвоката и публициста Мориса Жоли «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье», изданных в Брюсселе в 1864 году.
Более того, во период разгара «дела Дрейфуса» родилось новое понятие — «расовый антисемитизм» — применительно к волнениям, произошедшим в североафриканских колониях Франции, в частности, в Алжире. Слово «синдикат» тоже прямо и непосредственно вышло из недр «дела Дрейфуса» как описание специфической формы сговора влиятельных банковско-финансовых кругов по созданию союзного движения в общественно-политической среде Франции. Хотя сегодня далеко не все знают, что современные французские профсоюзы носят именно такое название — Syndicat — как группа людей или предприятий, которые работают вместе в составе единой команды (например, французский профсоюз журналистов Syndicat nationale des journalists (SNG).
Крылатое выражение Мориса Барреса «оргия метафизиков» применительно к преимущественно абстрактному, созерцательному, «общечеловеческому» и очевидно вненациональному типу мышления дрейфуссаров, их чрезмерному, подчеркнутому преклонению перед отвлеченными понятиями истины и справедливости, которых в реальности не существует, прочно вошло в лексикон многих философов, например, того же Бодрийяра с его «симулякрами» и «четвертой властью». А чего стоит тогдашнее ругательное политическое обвинение «генеральный штаб, вербуемый иезуитами»? Или другое, уже «социалистически» окрашенное — «Дрейфус должен рассматриваться прежде всего как представитель враждебного пролетариям капиталистического класса»? Про широко распространяемый и декламируемый в те времена лозунг «Франция для французов», с которым под пение «Марсельезы» и «Интернационала» шли в центр Парижа вооруженные палками и дубинками толпы рабочих целого ряда пригородов французской столицы сегодня лучше и не вспоминать. Какой там, прости Господи, Ŭber alles во временном историческом приоритете…
Пресса сыграла в «деле Дрейфуса» первостепенную роль и во многом благодаря ему же на деле, а не на словах стала «четвертой властью» в гражданском обществе многих стран. При полной бесцензурности французской прессы того периода в ней помещались откровенные террористические призывы вроде «бить аристократов прямо посреди конского навоза проституток» (намек на ипподром Лоншан вблизи Булонского леса — настоящего заповедника парижских проституток в 16-м округе столицы Франции). Помимо газеты «Орор» с письмом Э. Золя «Я обвиняю» через различные печатные органы «сливалось» все, что только можно: от «любовной переписки» глав германской и итальянской резидентур в Париже, угроз разоблачения Эстерхази о контактах Шварцкоппена с осужденной Милькамп (Мари Форе), любовницей французского разведчика Брюкера, осуществлявшим негласную слежку за Шварцкоппеном, до материалов т.н. секретного досье, переданного контрразведкой в суд в качестве доказательства виновности А. Дрейфуса, и публикации газетой «Матэн» (по другим данным — «Фигаро») факсимиле «бордеро», по которой французский банкир (!) Кастро якобы опознал почерк своего должника — Ф. Вальсина-Эстерхази.
Особо следует упомянуть о журналистских проделках Рэчел Бир (урожденной Сассун из Багдадской еврейской торгового семейства, более известного в истории под именем «Ротшильды Востока» из-за огромных прибылей от опиумного бизнеса). Она была главным редактором принадлежавших британскому газетному магнату Джулиусу Биру газет «Обсервер» (первая в мире воскресная газета, дочерний еженедельник известной британской газеты «Гардиан») и «Санди Таймс», и автором нашумевшей эксклюзивной передовицы с признанием (!) Эстерхази в авторстве написания им «бордеро». Это случилось уже в сентябре 1898 года в Англии после судебного процесса над самим Эстерхази, в ходе которого он был признан невиновным в предъявленных ему обвинениях.
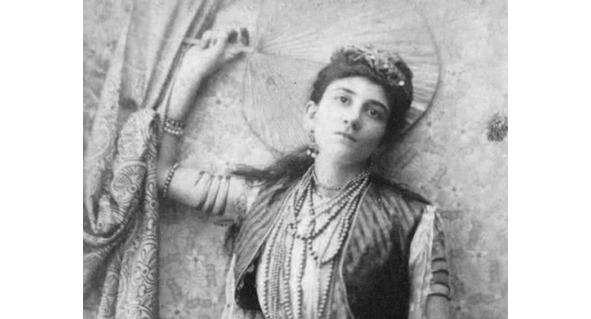
Можно упомянуть здесь кучу иных фактов, прямо свидетельствующих о проведенном влиятельными кругами ряда европейским стран активном мероприятии — по сути, коллективном заговоре против консервативно настроенного французского офицерства. Семь или восемь судебных процессов во Франции, из них три — только непосредственно по «делу Дрейфуса». Непрерывная череда дуэлей между представителями дрейфуссаров и антидрейфуссаров, таинственные «самоубийства» ключевых фигурантов (подполковника Юбера-Жозефа Анри в тюремной камере форта Монт-Валерьен и агента Анри еврейского дельца Лемерсье-Пикара в номере парижского отеля «Ламанш», обвинение того же Анри в предательстве со ссылкой на данные российского генштаба. Герой франко-прусской войны 1870 года капитан Жан Сандерр, ставший в 1887 году начальником «секции (отдела) статистики» в 50-летнем возрасте вначале был поражен менингитом (предположительно от нейросифилиса), в результате полностью парализован, из-за чего был уволен с военной службы и через год скончался — не слишком ли внезапная смерть для мужчины в расцвете лет?.
Пять отставок военных министров Франции (!), покушение на адвоката Дрейфуса Фернана Лабори, официальное заявленин германского правительства об отсутствии связи с Дрейфусом. Опубликованные газетой «Фигаро» письма бывшей любовницы Эстерхази мадам Буланси о его лютой ненависти к французам, публичное признание Шварцкоппена в прессе о получении им секретных документов именно от Эстерхази, акт помилования Дрейфуса президентом Эмилем Лубе, озвучивание Жаном Жоресом в Национальном Собрании текста письма генерала Пелье министру Кавеньяку по «деду Дрейфуса». «Признание» самим Дрейфусом факта своего предательства в беседе с сослуживцем капитаном Лебрен-Рено, беседа какой-то гипнотизерши из Гавра о содержании т.н. секретного досье (содержание которого было, кстати, предано гласности лишь в 2013 году), доведенного аж до сведения премьер-министра — этот список важнейших вех данной «активки» можно было бы перечислять до бесконечности. В парижском Музее искусства и истории иудаизма можно полюбоваться даже на настольную игру под названием «Дело Дрейфуса» — сделанную по примеру захватывающих приключений известного всем детям Буратино с его золотым ключиком…
Чего стоит в этой связи душераздирающая детективная история об обстоятельствах смерти известного писателя, лидера дрейфуссаров Эмиля Золя, который отравился в своем особняке угарным газом? Позднее в прессе появилось предсмертное признание какого-то строителя, который якобы из чувства мести в сентябре 1902 года совместно с трубочистом-антидрейфуссаром Анри Буронфоссе намеренно завалил щебнем и строительным мусором каминную трубу в доме писателя и тем самым спровоцировал его смерть. Или внезапная смерть в «Голубой гостиной» Елисейского дворца президента Ф. Фора, которого «обвинял Золя», якобы от сердечного приступа во время любовных утех с известной великосветской шлюхой, владелицей одного из известных парижских «литературных салонов»?
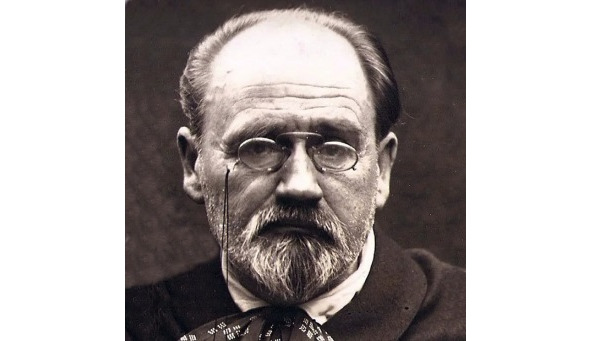
Как прикажете рассматривать так называемую «общественную экспертизу» секретных национальных документов, осуществленную с участием экспертов иностранных государств? Или проведение через парламент в декабре 1900 года законопроекта Вальдека-Руссо «об амнистии всех причастных к делу Дрейфуса лиц» — прямо-таки предтеча известной думской амнистии 1994 года… Шутки шутками, но с принятием этого закона провозглашалось, что отныне «защита прав человека стоит впереди государственных интересов, что правда и справедливость являются абсолютными приоритетами, которые не сможет отодвинуть на второй план никакой приказ, с какой бы высокой инстанции он не исходил».
А кто может сказать, что «эльзасский земляческий след» не был весьма отчетливо прочерчен в этом деле, если вице-президент Сената известный химик и предприниматель Огюст Шёрер-Кестнер инициировал пересмотр дела Дрейфуса по просьбе премьер-министра. а другой выходец из Эльзаса — сменивший неугодного дрейфуссарам контрразведчика-эльзасца полковника Жана Сандерра — его «внезапно прозревший» заместитель полковник Жорж Пикар стал в конце своей карьеры не просто генералом, но еще и военным министром Франции. Или уроженец Кольмара (Эльзас) министр Эмиль Цурлинден, безуспешно пытавшийся втолковать дрейфуссарам свою принципиальную позицию по «делу Дрейфуса», который был вынужден уйти в отставку вместе с министром общественных работ Тилле? Наконец, знаменитая агентесса «Службы статистики» (французской военной контрразведки) Мари Бастиан также была уроженкой Эльзаса, благодаря чему она и смогла попасть на работу в ведомство военного атташе Германии во Франции и заполучить в свои руки обрывки того самого пресловутого «бордеро»…
Закончилось «дело Дрейфуса» очень даже конкретным и очень весомым политическим итогом — полным отделением церкви от государств после принятия закона от 9 декабря 1905 года и провозглашения Францией политики государственного секуляризма. Соответствующий законопроект был подготовлен независимым социалистом Аристидом Брианом (подлинным любимцем одесских пикейных жилетов во главе с Фунтом) и проведен через Национальную ассамблею левым правительственным блоком во главе с Эмилем Комбом из республиканской, радикальной и радикал-социалистической партия, при активном участии членов Французской секции Международного Интернационала (СФИО) Жана Жореса и Френсиса де Прессансэ. Известный «конкордат Наполеона 1801 года», восстановившего после окончания периода Великой французской революции католическую церковь в качестве государственной религии Франции был заменен на «Закон об о разделении церквей и государства».
В соответствии с ним все имущество церквей и связанные с этим обязательства передавались различным сформированным из мирян ассоциациям якобы религиозного толка — «независимым юридическим лицам», располагающим всеми правами и обязанностей в отношении денег и имущества культового учреждения. С того времени и поныне церковные организации во Франции существуют в виде обычных культурных обществ из ассоциированных обществ мирян и руководить ими в принципе может кто угодно, невзирая на свою конфессию. Ибо эти общества уже никак не связаны с церковными иерархиями, к которым были ранее отнесены конкретные культовые учреждения. Кстати, на территорию Эльзаса и части Лотарингии действие этого закона не распространяется до сих пор, там по прежнему признаются и поддерживаются государством все четыре ведущие религии — католицизм, кальвинизм, протестантизм и иудаизм.
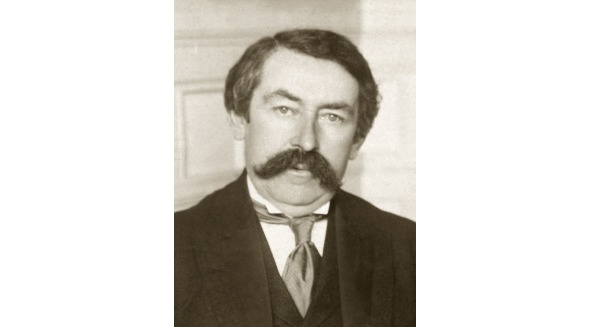
Папа Пий Х в своей энциклике «Gravissimo officii munere» в августе 1906 года объявил его «гнусным законом» и призвал французских католиков «защищать религию своего Отечества». Напомним, что одним из первых декретов Советской власти был именно «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января (2 февраля) 1918 г. (в официальных изданиях он проходит названием «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах»). Важнейшее положение этого Декрета содержалось в незаметном, на первый взгляд, примечании к ст.3: «Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется». Декрет был подписан предсовнаркома РСФСР Ульяновым (Лениным), народными комиссарами Подвойским, Алгасовым, Трутовским, Шлихтером, Прошьяном, Менжинским. Шляпниковым, Петровским, а также управляющим делами Совнаркома Бонч-Бруевичем и секретарем Горбуновым. Редкий случай, когда на одном законодательном акте красуется сразу столько подписей, сразу чувствуется стремление создать некую «коллективную ответственность» за содеянное…
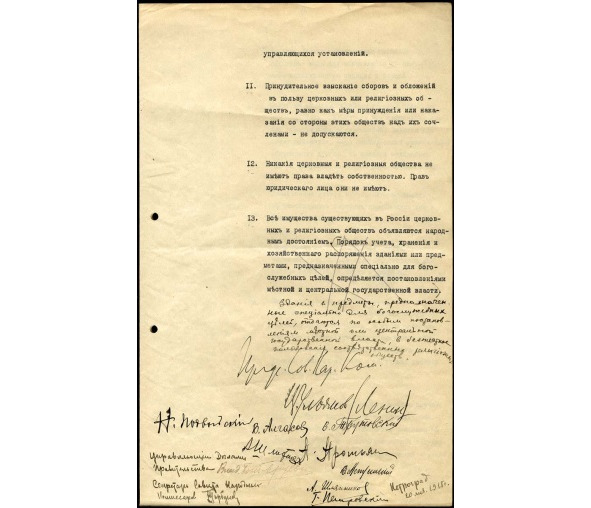
Как известно, тогдашние радикалы и социалисты опирались в своей деятельности на широкую сеть созданных ими же обществ, неформальных клубов, масонских лож, секций «Лиги прав человека», «Французской лиги образования» и прочих очень разветвленных и распространенных по всей стране структур. Так, согласно исследованиям Ф. Винде, опубликованным в 1989 году Мичиганским университетом, правительство Э. Комба очень тесно сотрудничало с масонскими ложами в плане тайного наблюдения за всеми армейскими офицерами с целью убедиться в том, что ревностные католики не будут повышаться в должности. Это было основным содержанием знаменитого в свое время «дела фишье (досье)» 1900—1904 гг. Последующим расследованием было установлено, что видные масоны из Великого Востока Франции премьер-министр Эмиль Комб и военный министр Луи Андрэ контролировали продвижение по службе подчиненных им офицеров на основе религиозного поведения военнослужащих и для этих целей создали настоящую картотеку.
В 1904 году Жан-Батист Бидеген, заместитель генерального секретаря ложи Великий Восток Франции, тайно продал за 40 тысяч франков часть имевшихся у него досье Габриэлю Сиветону из «Лиги французского Отечества», который и предал их гласности, вызвав тем самым отставку военного министра Луи Андре и спровоцировав очередной правительственный кризис в январе 1905 года. За что и поплатился в декабре 1904 года — его нашли на полу мертвым накануне предстоявшей явки в суд ввиду нападения на военного министра в помещении Национального собрания. Причина смерти — якобы от удушья по причине неисправности газового обогревателя в комнате, в которой он находился под домашним арестом…
Итог же «дела Дрейфуса» в спецслужбистской сфере тоже вполне очевиден. Военная разведка Генерального штаба (deuxieme bureau), ведомая Жоржем Пикаром, будущим военным министром в правительстве Жоржа Клемансо, одержала оглушительную победу в развернувшемся противоборстве спецслужб, благополучно просуществовала вплоть до поражения Франции в 1940 году и даже успела сформировать под руководством Луи Риве в своих недрах «Бюро борьбы с национализмом» (ВМА). А вот военная контрразведка в результате «дела Дрейфуса» в 1899 году была полностью выведена из подчинения военному министерству и все ее функции в области контршпионажа были переданы министерству внутренних дел Франции. Под непосредственное кураторство и бдительную опеку того самого уроженца Вандеи, ярого антиклерикала, друга упоминавшегося выше старшего вице-президента Сената Огюста Шойрера-Кестнера Жоржа Клемансо, который активно участвовал в «панамской афере», являлся создателем и владельцем также упоминавшейся ранее газеты «Орор» и опубликовал на страницах различных печатных изданий 665 статей в защиту А. Дрейфуса.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Загадочная политическая фигура В.В.Шульгина
Выбравшись из дебрей, чащей и зарослей «дела Дрейфуса» на долгожданный простор творческой инициативы, стряхнув с себя морок очень глубоких, но несколько жутковатых откровений франко-российского исследователя А. Койре об истинной природе и предназначении лжи для целей «грязной политики» как искусства управления и манипуляции людьми, посмотрим-ка просветленным взглядом еще на один интересный политический персонаж, чья незаурядная личность меня всегда чрезвычайно занимала в плане анализа успешного проведения «активных мероприятий» спецслужб. Но до которого, как говорится, «руки всё никак не доходили».

Речь пойдет об очень известном русском монархисте, одном из ключевых фигурантов темной истории с отречением от престола последнего императора Российской империи Николая II — Василии Витальевиче Шульгине. К бурной деятельности наших славных отечественных спецслужб он имел, вне всякого сомнения, самое непосредственное отношение, правда не вполне понятно — с какой именно стороны и в каком конкретно качестве. Я имею в виду, конечно же, его прямую причастность к знаменитой долговременной чекистской специальной операции, ныне всем известной под названием «Трест». Которая была спланирована и проведена органами ГПУ-ОГПУ в 30-х гг. ХХ века на территории целого ряда европейских стран, в частности, России (СССР), Польши, Финляндии, Болгарии, Сербии, Франции, Бельгии, Германии, причем главная, ключевая направленность этой операции остается не вполне ясной до сих пор. Буквально все основные руководители и наиболее активные участники этой операции сгинули в топке сталинских репрессий, но причина столь трагического финала так и не была до конца прояснена официальными историками специальных служб.
В.В.Шульгин — личность прелюбопытнейшая с любой стороны и с любого ракурса, с каких на него ни посмотреть, фигура очень и очень, мягко говоря, «неоднозначная», как сегодня стало модным говорить. С одного боку — вечно живой и немеркнущий символ российского монархизма, один из столпов идеологии «белого движения», виднейший и наиболее заметный парламентский говорун почти во всех составах дореволюционных Дум Российской империи, знамя русского национализма, стойкий, убежденный и идейный антисемит профессорско-интеллигентского толка (точнее, юдофоб, как он сам себя любил характеризовать). Более того — «русский фашист», согласно его собственному признанию, причем отчетливо муссолиниевской идейной направленности, когда будущим национал-социализмом Адольфа Гитлера еще и не пахло на белом свете. С другой стороны — типичный лицемер, соглашатель, привыкший строить всю свою жизнь по формуле: «я с теми, кто сегодня победитель» (опять же — это его собственное откровенное признание). В результате подобной необычайной «политической гибкости» он после длительного сидения, причем не в какой-то каталажке, а в знаменитом Владимирском централе, в конечном итоге оказался в зале Кремлевского Дворца съездов среди почетных гостей одного из «съездов победителей» — хрущевского ХХII съезда КПСС 1961 года. Который, как известно, подвел жирную черту под всем основным массивом политического наследия сталинского периода развития страны и провозгласил наступление эры «будущего жития нынешнего поколения советских людей при коммунизме».
Но главной в его политической жизни все же была та страница, когда он, «прогрессивный монархист». стал вместе с другим видным «думцем» — «октябристом» А. Гучковым главным действующим лицом того фарса, который навечно остался в нашей отечественной истории под названием «отречение от престола» последнего российского императора Николая II. Ну, ладно, Гучков, один из широко известных и общепризнанных лидеров международного масонского заговора с целью свержения российского царя, его личный враг, можно сказать, но Шульгин-то какую роль играл во всем этом балагане с «отречением»?
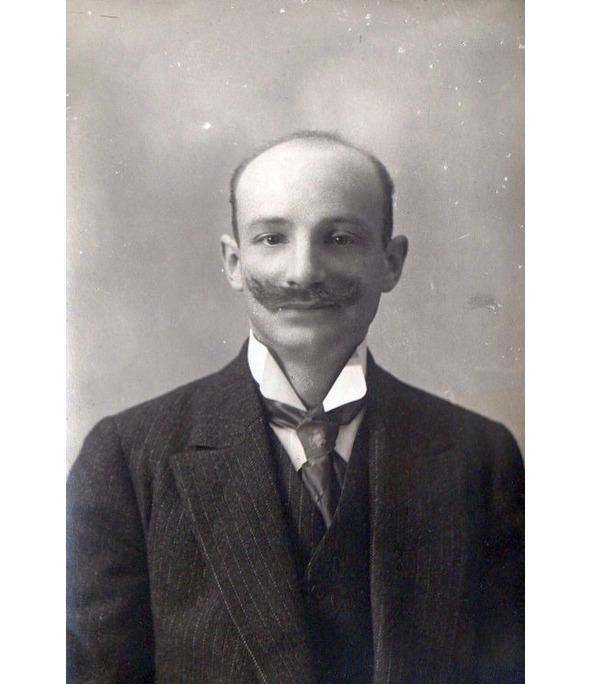
Его основное литературно-публицистическое произведение — книга «Дни» — была издана в СССР в ленинградском издательстве «Прибой» еще в 1925 года в разделе «Библиотека русской революции и гражданской войны», причем, по бытующей ныне легенде, чуть ли не по личному указанию самого В.И.Ленина. До этого она была опубликована в журнале «Русская мысль», №№1—2 в 1922 году, а затем выпущена издательством М.А.Суворина в Белграде в 1925 году. Тот, кто читал эту книгу, легко мог подметить, что в ней наиболее выпукло отражены всего лишь три основных исторических эпизода отечественной истории: массовые беспорядки и безуспешная попытка устроить еврейский погром в Киеве в 1905 году, эпоха «распутинщины» 1916 года и очень подробное, почти детальное описание процедуры отречения Николая II от престола в феврале-марте 1917 года. Все остальное — не более, чем гарнир к основному блюду на выбор и на вкус потребителя. Если судить с позиций наших сегодняшних совокупных представлений и знаний об этих исторических событиях, во всех трех упомянутых мизансценах В.В.Шульгин объективно сыграл роль «полезного буржуазного идиота» согласно бессмертной формуле, которую то ли по праву, то ли бездоказательно приписывают В.И.Ульянову (Ленину). Посмотрим объективно на описываемую автором ситуацию с самых разных сторон и попробуем сделать собственные, не навязанные никем выводы.
Допустим на минуту, что умирающему от прогрессирующей умственной болезни вождю мирового пролетариата действительно в 1923 году так уж больше и нечем было заняться, чтобы в условиях своего фактического отстранения от рычагов власти и управления страной, в перерывах между периодической «надиктовкой» дежурным стенографисткам Совнаркома и, одновременно, осведомительницам И.В.Сталина (Джугашвили) «Писем к съезду» и «программных статей для будущей горбачевской перестройки» (составивших, однако, ни много, ни мало содержание целого 45-го тома ПСС В.И.Ленина), у него еще оставалось какое-то свободное время, чтобы изучать книги рядового, в общем-то, российского эмигранта В.В.Шульгина. А уж тем более давать по ним какие-то «руководящие указания» своему неформальному помощнику и личному секретарю В.Д.Бонч-Бруевичу (надо полагать, больно уж крупный и незаменимый специалист по «делу Бейлиса» был сей шляхтич, этнограф, управляющий делами Совнаркома и председатель Комитета по борьбе с погромами…).
Так на кой же леший самому (!) Ульянову (Ленину) вообще сдался сей ржавый «осколок старого мира» — белоэмигрант Шульгин? Он что, выдающимся русским мыслителем был, вроде тех. которые по прихоти или по злой воле вождя пролетариата отправились в 1922—1923 гг. в долгосрочное зарубежное турне аж на целых пяти «гуманитарных» (философских) пароходах? Но Василий Шульгин был далеко не Ильиным, не Бердяевым, не Сорокиным, не Булгаковым, не Кусковой, не Струве и даже не Бруцкусом — так себе, очевидные «печки-лавочки», очередной бытописатель «хроники текущих событий того периода», не более того.
Или, может быть, Ленина почему-то внезапно заинтересовали выводы небольшого публицистического очерка В. Шульгина под названием «1920 год», изданного в 1922 году в московском отделении Госиздательства, в котором якобы анализировались «причины краха белого движения»? Так ведь с точки зрения прикладной государственной политики сей публицистический труд — чушь полнейшая, детский сад, какая-то художественная «одесская баллада» в цветах противоборства «красного бандита Котовского» и «белого бандита Стесселя», где единственный вразумительный сюжет касается размышлений несчастного отца о судьбе своего пропавшего на войне сына-добровольца. Так зачем все же большевикам — ярым воинствующим ненавистникам «великорусского буржуазного шовинизма черносотенного оттенка» — столь остро понадобилось живое политическое присутствие в советской России бывшего видного «черносотенного думца» В.В.Шульгина, главного редактора и владельца достаточно популярной среди творческой интеллигенции газеты «Киевлянин»? Рискну осторожно предположить: по причине того, что сей исторический персонаж волею случая стал живым свидетелем «политического шоу» под названием «отречение от престола последнего российского царя», и на сем железобетонном основании он вполне свободно мог действовать в этом политическом спектакле по очень известной и широко распространенной среди практикующих юристов формуле: «Он врет, как свидетель!».
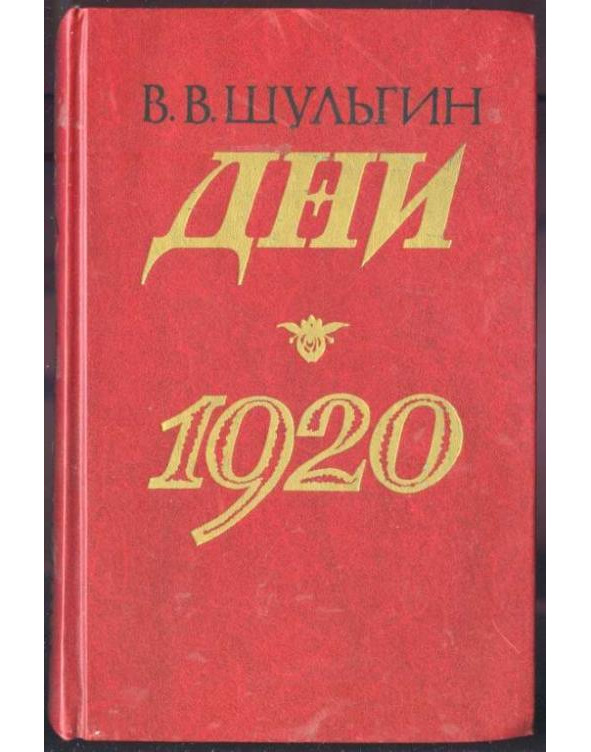
Давайте посмотрим на ситуацию марта 1917 года именно под этим методологическим углом подлинно научного исторического исследования. О том, что Николай II был фактически насильственно свергнут с престола российской империи совокупными стараниями объединенного «кубла» отечественного масонства в царской Государственной Думе и предательской части военной верхушки командования фронтами действующей армии, где они тоже успели свить свое уютное гнездышко, я достаточно подробно писал в своих книгах «Кукловоды и марионетки» и «Зарубки на гриппозной сопатке» — вновь повторяться по сему позорному и постыдному сюжету не буду. Приведу для раздумий лишь одну цитату из книги «Дни» В.В.Шульгина.
«Через некоторое время Государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:
— Вот текст.
Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке. Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль, и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать… Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают…
«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали Мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть.
Не желая расстаться с любимым сыном нашим, Мы передаем наследие нашему брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами Государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. (в данном тексте нет фразы «принеся в том ненарушимую присягу»). Во имя горячо любимой Родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний (нет — и) помочь ему, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.
Да поможет Господь Бог России. Николай».
Слова царского манифеста, что и говорить, действительно очень емкие, продуманные, и даже совершенно очевидно выстраданные им! Они воспринимаются читающими эти строки как яркие и мощными и по внутренней силе, и по высокой степени своего эмоционального воздействия. Однако все же давайте более подробно остановимся на этом ключевом эпизоде с отречением царя в изложении г-на Шульгина в свете всего того, что произошло с этим поистине эпохальным историческим документом в дальнейшем. Ибо в числе «100 раритетов российской государственности», экспонированных в 2018 году на выставке в Манеже в Москве, широкой публике был представлен именно тот самый знаменитый акт отречения Николая II от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Попутно замечу — он экспонировался на выставке в единой документальной экспозиции с гектографической копией Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года. Оригинал которого, по многочисленным свидетельствам очевидцев тех событий, куда-то самым таинственным образом вдруг исчез. Вот изображение «царского манифеста», его без труда можно посмотреть в списке документальных источников на сайте «100 главных документов российской истории» в рамках совместного проекта Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества (РВИО).
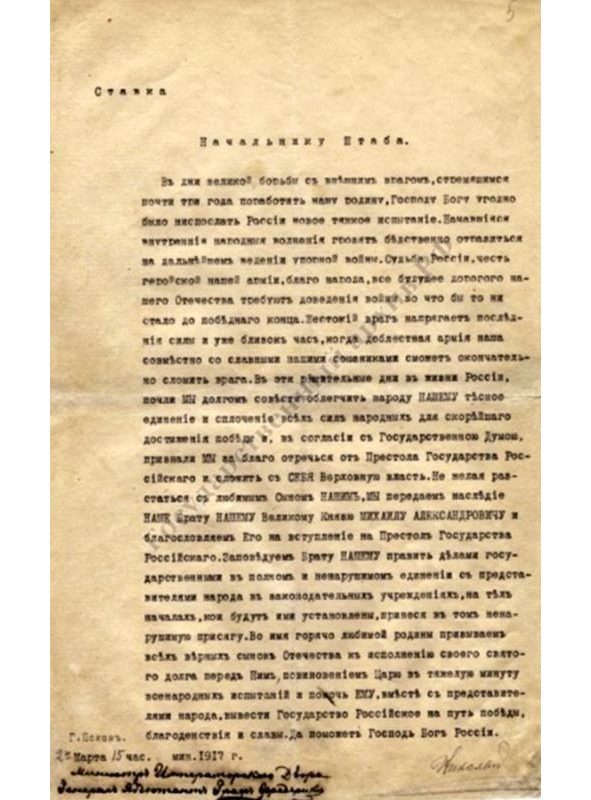
И какие же вопросы тот час возникают у любого мыслящего человека в этой связи? Их очень много, но основной из них следующий: а какова же достоверно подтвержденная история появления данного документа в фондах российских государственных архивов? Какой-то то непонятный «запечатанный пакет за №607» с «шифром» какого-то мифического Г.С.Старицкого, поступивший в Библиотеку академии наук еще в июле 1917 года научному руководителю рукописного отдела академику Всеволоду Измаиловичу Срезневскому при посредничестве академиков Котляревского и Дьяконова и при содействии старшего ученого хранителя библиотеки Модзалевского… Когда в 1926 году Академии наук СССР затеяла реорганизацию архивного дела в академии, в частности, устроила перераспределение архивных фондов между вновь создаваемыми «специальными» академическими хранилищами, Срезневский, не следует этого забывать, активно выступал против передачи большей части бывших фондов революционной литературы в созданный Институт В. И. Ленина.
Между прочим, занимался этим «богоугодным делом» в том числе и небезызвестный доктор исторических наук этнограф В.Д.Бонч-Бруевич, которого я уже неоднократно упоминал в своих книгах по самым различным поводам. Знаете сколько у создателя теории научного атеизма было «литературных псевдонимов»? Целых тридцать. А помните знаменитую в СССР книгу «Ленин и дети»? Это его наиболее яркое и запоминающееся произведение. История с «перераспределением архивных фондов, которые, к тому же, до той поры относились к ведению Наркомпроса — одного из основных «рассадников и заповедников троцкизма» в стране, возглавляемого в те времена А.В.Луначарским, Н.К.Крупской и знаменитым «академиком от коммунистической истории», редактором журнала «Красный архивист» М.Н.Покровским — это классика жанра искусства изъятия из государственных и ведомственных архивов «ненужных» и «вброса» в научный оборот «нужных» исторических артефактов. Ну, прямо таки повторение знаменитой истории с внезапно найденными «оригиналами» секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа, хранившихся с какого-то времени в пакете №34 «Особой папки» VI сектора Общего отдела ЦК КПСС и дождавшихся, наконец-то, своего первооткрывателя академика А.Н.Яковлева…
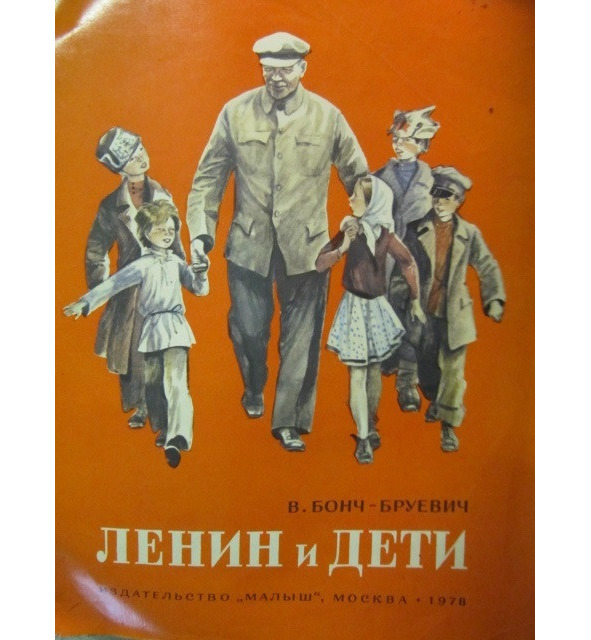
Но, может быть, речь все же шла о моем земляке — полтавском губернаторе во времена А.И.Деникина, присяжном поверенном, статском советнике Георгие Егоровиче Старицком, воспитаннику 50-го выпуска (1889 г.) Императорского Училища Правоведения, который в 1920 году эмигрировал в Софию и который являлся близким родственником академика В.И.Вернадского, имевшего поместье в селе Шишаки вблизи родового гнезда Н.В.Гоголя? Он, между прочим, обучался в этом престижном училище вместе с принцем Петром Александровичем Ольденбургским и флигель-адъютантом ЕИВ, полковником лейб-гвардии Преображенского полка. Кириллом Анатольевичем Нарышкиным, который в юношеские годы дружил с будущим императором Николаем II.
Вас это ни на какие мысли не наводит? К.А.Нарышкин с декабря 1916 года в чине генерал-майора возглавлял военно-походную канцелярию при Императорской Главной Квартире, одновременно был Главой военного управления и полевого суда Его Императорского Величества, в июне 1917 года он выехал в Киев и вполне мог перед отъездом передать своему бывшему сокурснику Г.Е.Старицкому столь важный исторический документ, коим является акт отречения от престола Николая II. Вот что писал Шульгин в своей книге: «Около часу ночи, а может быть двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны Государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе Временного правительства князю Львову. Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же…». Уже не вполне понятно: кому и для каких целей оказался столь нужным «другой», также подписанный царем Николаем экземпляр отречения — для отчета по командировке Гучкова и Шульгина на экстраординарном собрании питерских масонов, что ли? И где он, спрашивается, сегодня хранится? Не в Чарлстоне ли случайно или в «Доме Храма» в Вашингтоне (США), где стараниями масонов сформирована одна из богатейших в мире библиотек оригиналов древних актов?
Остановимся на вопросе совершенно очевидных странностей внешнего оформлении этого важнейшего государственного акта. Повторять чьи-то глупости и нелепости вслед за руководителем Федерального архивного агентства А.Н.Артизовым только потому, что он сегодня является очередным главой этого ведомства, я не намерен. С меня вполне достаточно многочисленных «художеств» его предшественников Пихоя и Мироненко.
Ведь то, что он произнес в своем интервью журналу «Родина» к 100-летию Октябрьской революции, вполне достаточно чтобы усомниться в его компетентности и как специалиста архивного дела, и как ученого: «С точки зрения источниковедения, которое посвящено методам и приемам работы с историческими документами, подпись — один из важнейших реквизитов документа. И не имеет значения, чем она сделана (ручкой или карандашом), какими чернилами, какого цвета и с какими ошибками. Петр Великий был умнейший человек, но Бог не дал ему грамотности. В слове из пяти букв царь делал три ошибки. И что нам теперь в документах, которые он подписал, сомневаться?»
Да, именно так — сомневаться, причем всенепременно и в обязательном порядке. По заветам создателя метода радикального сомнения Рене Декарта, который говорил: «Никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью». Иначе мы в истоках и причинах появления, к примеру, известной исторической фальшивки под названием «Завещание Петра Великого» не разберемся никогда! А то, что данный вопрос далеко не праздный, а вполне прикладной, свидетельствует хотя бы следующий достаточно красноречивый факт.
В 2019 году Российское историческое общество вместе со Сбербанком, РЖД, группой питерских историков из института истории РАН и ученых Высшей школы экономики запустили целый проект по изучению рукописей Петра Великого и для этого создали специальную IT-программу по распознаванию почерка Петра I в его рукописях. В которую, по сообщениям СМИ, уже загрузили свыше 10 тысяч документов, написанных первым российским императором! Согласитесь, что столь внушительная цифра выглядит несколько странной на фоне утверждения главы Росархива о полной неграмотности царя… Неграмотный правитель вряд ли смог бы выпустить в свет столь потрясающий государственный акт, как этот Указ Петра I: «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим начальника не смущать». Это же поистине нынешняя универсальная формула всей системы управления в современных условиях: « Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак»!
Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук В. Лавров абсолютно правомерно поставил перед властями и обществом целей ряд недоуменных вопросов, которые дают все основания сомневаться в подлинности «акта отречения Николая», предоставленного на обозрение широкой публике. Да, само отречение было, это несомненно. А вот как отречение от престола императора Николая II и его преемника Михаила было документально, юридически оформлено и какова степень легитимности абдикационного акта, адресованного какому то «начальнику штаба» и зачем-то «контрассигнованного» бароном Фредериксом, пусть и далее сушит свои заплесневелые мозги яйцеголовая академическая публика! Мне абсолютно безразлично, кто из наиболее достойных их представителей — Поклонская, Спицин или Пчелов — более прав, а кто более неправ в своих оценках. Официальная государственная экспертиза этого так называемого «царского манифеста» как подлинника государственного законодательного акта проведена не была — а посему, уважаемые академики и всякие прочие член-корры с докторами наук, гуляйте пока лесом, вяло переругиваясь друг с дружкой по поводу содержания и внешнего оформления очередной исторической… скажем осторожно так — нелепости и несуразности…
Сей основополагающий документ поступил, оказывается, в ГАРФ (точнее — в Госархив СССР) в составе архива Наркомата рабоче-крестьянской инспекции! Так, по крайней мере, излагает историю его появления в главном архивном хранилище страны его бывший глава доктор истории С. Мироненко. Уже необычайно любопытно. Почему, спрашивается, он находился не в составе архивных массивов ОГПУ, коль скоро им очень и очень плотно заинтересовались вначале питерские, а затем и московские чекисты? Которые не только открыли отдельное уголовное дело по статье 78 УК РСФСР против С.Ф.Платонова и его сотрудников по факту «сокрытия от советской власти документов в целях их использования для будущего монархического хозяина России», но не поленились в свое время созвать целую экспертную комиссию для подтверждения «подлинности» обнаруженных в Академии наук абдикационных документов Николая и Михаила Романовых? Где тогда находится акт проведенной «научной экспертизы», доложенной почему-то не Сталину, Менжинскому, Ягоде или хотя бы тому же Кирову, а непосредственно большому специалисту по проблемам развития промышленности страны, председателю ВСНХ Г.К. (Серго) Орджоникидзе, который к тому времени еще даже полноправным членом Политбюро ЦК ВКП (б) не был? Где, наконец, обитается сегодня протокол переговоров Николая II c представителями Государственной Думы, составленный упоминавшимся мною ранее начальником походной канцелярии генералом Нарышкиным под названием «Протокол отречения» и каково его точное, а не приблизительное, описательное содержание?
Достоверно известно одно: никакого проекта царского манифеста А. И. Гучков и В. В. Шульгин с собой не привозили и Николаю II его не предъявляли, все это последующие исторические фантазии! Как сегодня хорошо известно, сохранившийся для истории текст был напечатан на обычном листе бумаги, хотя тот же Шульгин уверял, что манифест представлял собой «две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке». Это, в частности, он утверждал на допросе в следственной комиссии: «Царь встал и ушёл в соседний вагон подписать акт. Приблизительно около четверти двенадцатого царь вновь вошёл в вагон — в руках он держал листочки небольшого формата. Он сказал: „Вот акт отречения, прочтите“». Описанные Шульгиным телеграфные «четвертушки» действительно использовались при написании Государем его телеграмм в Ставку.
То есть, В. В. Шульгин либо видел образцы таких телеграмм, либо ему специально их показывали, чтобы он знал, как выглядят царские телеграммы. Поэтому В. В. Шульгин столь правдоподобно и рассказывал всем об этих «четвертушках», поскольку не видел «манифеста» на отдельном листе большего формата и был вынужден, заявив о «четвертушках», «вспоминать» о них и дальше. Характерно, что после освобождения из тюремного заключения доживающий свой век в городе Владимир В. Шульгин решительно отказывался заново пересказывать эпизод отречения Николая II и всегда отправлял интересующихся к своей книге «Дни»! Из всех «участников событий 2 (15) марта 1917 г.» только А.И.Гучков на допросе во Всероссийской Чрезвычайной Следственной Комиссии дал описание манифеста, сходное с найденным в Академии наук СССР оригиналом. «Через час или полтора, Государь вернулся и передал мне бумажку, где на машинке был написан акт отречения и внизу подписано „Николай“».
Небезынтересно также, что в опубликованном сравнительно недавно камер-фурьерском журнале за 1917 г. имеется следующая запись, датированная 2 марта: «Сего числа прибыли в г. Псков представители Временного правительства, военный министр Гучков и член Государственной думы Шульгин, и в 9 часов 40 минут были приняты в Императорском поезде и доложили о происходящем в Петрограде революционном движении». Однако из протоколов допроса чрезвычайной следственной комиссией самого А.И.Гучкова явствует, что он уезжал во Псков, еще не будучи назначенным военным министром Временного правительства. Не знали об этом назначении в Ставке и в штабе Северного фронта. Так, в 16 ч 50 мин 2 марта 1917 г. генерал Ю.Н.Данилов телеграфировал из Пскова генералу М.В.Алексееву, что «около 19 часов Его Величество примет члена Государственного Совета Гучкова и члена Государственной Думы Шульгина». А в 20 ч 48 мин того же дня тот же Данилов телеграфировал генералу Клембовскому, что «поезд с депутатами Гучковым и Шульгиным запаздывает». Да и телеграмму из Пскова от 2 марта А.И.Гучков подписал только своей фамилией, не указывая какой-либо должности. Поэтому дежурный делопроизводитель канцелярии, делавший в камер-фурьерском журнале запись от 2 марта 1917 г., никак не мог величать Гучкова «военным министром»! Скорее всего, «беловая» (вместо возможной «черновой») запись в этом журнале вполне могла быть оформленной «задним числом», а это уже наводит на самые различные размышления и предположения, в том числе и на возможность более поздней фальсификации документального источника информации.
Широкой читательской аудитории не очень детально, но все же достаточно хорошо известно, что задолго до начала широкомасштабного развертывания беспрерывной череды известных из истории СССР сталинских политических процессов 1934—1939 годов в Ленинграде получило старт так называемое «дело академиков», которое вначале было «архивным делом» или «делом историков». Его политическая направленность была совершенно очевидной: навести, наконец-то, настоящий «революционный большевистский порядок» в заповеднике либерального вольнодумства «гнилой русской интеллигенции» — в Российской академии наук (позднее Академии наук СССР). В общих чертах я описывал всю эту историю с грызней в стане первых советских академиков в статье «Глобализация — продажная девка капитализма?» на портале РНЛ, желающие могут ознакомиться самостоятельно.
В эпоху расцвета «советского диссидентства» на страницах «полузакрытой», как сейчас более принято говорить — «альтернативной» — отечественной истории появилось немало ярких фигур, Среди них следует особо выделить школьного учителя, выпускника литературного факультета Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена, очень дотошного, настырного и порой даже откровенно въедливого активиста общества «Мемориал» (недавно признанного в Российской Федерации НКО-иноагентом) Ф.Ф.Перчёнка. Он частенько публиковался за рубежом под псевдонимами И. Вознесенский, К. Громов, Б. Трофимов, Солодов, Р. Бах, Л. Крафт, Ф. Благовещенский и др., причем в основном специализировался на тематике репрессий ученых в СССР.
Однако, как бы там ни было, его исследования по тематике «дела академиков» неизменно были достаточно информативными и, вне сомнения, заслуживали внимания специалистов-историков. Это были, в частности, фундаментальные статьи Ф.Ф.Перчёнка «Академия наук на «великом переломе» (журнал «Звенья. Исторический альманах. Выпуск.1,М.,1991) и «Дело Академии наук (журнал «Природа», 1991, №4). Среди использованных им источников следует также упомянуть «Академическое дело 1929—1931 гг Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ, вып.1» и «Дело по обвинению академика С.Ф.Платонова, СПб, 1993». Крайне важным во всех этих публикациях является попытка исследователей найти ответ на следующий принципиальный вопрос: что же явилось конкретным поводом к развертыванию достаточно рутинного для тех времен «академического дела» в чисто спецслужбистском плане, с привлечением обширных возможностей агентурно — осведомительской сети ОГПУ, да еще очевидно в духе упомянутой мною выше «концепции лжи и дезинформации Койре»? Думается, вот что.
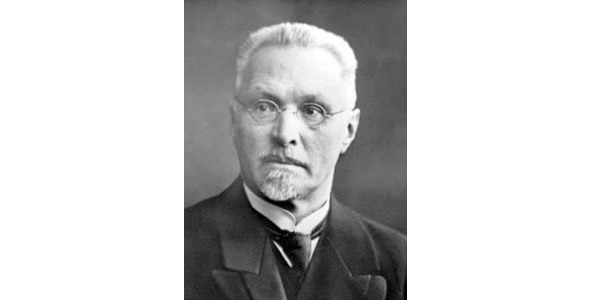
В октябре 1929 года в ОГПУ поступила информация о том, что в Ленинграде в Библиотеке Академии наук «в тайне от советского руководства» хранятся подлинники документов об отречении от престола Николая Второго и его брата, а также часть материалов, непосредственно связанных с именем Ленина. Первоначальный импульс был задан работавшей тогда в Ленинграде комиссии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР по проверке работы аппарата Академии наук СССР, которую возглавлял Ю. П. Фигатнер. Он якобы через свои собственные неназванные источники (скорее всего, через заведующего I (русским) отделом БАН, профессора Военно-политической академии В.П.Викторова) выяснил, что Академия наук действительно располагала целым массивом документальных материалов, потенциально способных вызвать настоящий политический взрыв в СССР и за рубежом. Фигатнер молодец, гнида, сразу стал играть в четыре руки одновременно на двух конкурирующих роялях, за что позднее сполна поплатился и, по-видимому, горько пожалел. Вот что было отражено в его совместной с С.М.Кировым шифротелеграмме из Ленинграда в Москву.
«Агентурные (!) сведения подтвердились. В нешифрованном фонде библиотеки Академии Наук найдено: оригинал отречения Николая и Михаила, архив: департамента полиции, третьего департамента, канцелярии Николая, охранки, ЦК эсеров, кадетов, митрополита Стадницкого, особого совещания при Николае, военного министерства, казначейства, герцога Макленбург-Стрелицкого, 66 томов дневника Константина Романова — каждый том закрыт специальным замком. Всё это опечатано и охрана поставлена. В Пушкинском доме семь ящиков архива шефа корпуса жандармов Джунковского, часть архива Константина Романова и так далее. В Пушкинском доме опечатано два помещения с материалами. В Археографической комиссии найдено: доклад Николаю о войне и большой архив князя Михаила Николаевича. Опечатан шкаф с материалами. Завтра приступаю к подробной описи документов. Есть основания предполагать, что не всё ещё выявлено. Сообщите, направлять ли материалы в Москву. Считаем целесообразным создание специальной правительственной комиссии из трёх человек под председательством Фигатнера для рассмотрения несдачи материалов Академией Наук, это может помочь нам вскрыть очень многое. Кандидатов в члены комиссии представим дополнительно. Ждём указаний» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135). Да, на мой взгляд одних лишь архивов третьего департамента полиции и семи ящиков личного архива шефа жандармов Джунковского уже вполне достаточно для зарождения политической сенсации, а тут вдруг внезапно такое археологическое счастье ленинградским чекистам Сергея Мироновича с небес привалило!
Одновременно Фигатнер скрытно, в тайне от официального историка партии и куратора работы АН СССР от ЦК академика М. Покровского подготовил подробный отчет для доклада председателю Центральной контрольной комиссии ВКП (б) Г.К (Серго) Орджоникидзе. В четырёх разделах своего отчёта Фигатнер подробно перечислил самые крупные находки. Первый раздел он озаглавил «отречение Николая и Михаила». Там, в частности, утверждалось: «Отречение Николая и Михаила поступило в нешифрованный фонд Академии наук летом 1917 года от сенатора Старицкого и академика Дьяконова, который был назначен Временным Правительством сенатором. Хранились оба эти документа у заведующего нешифрованным фондом В. И. Срезневского. О хранении отречения знали академики Дьяконов, Шахматов, Соболевский, Никольский, Платонов, Ольденбург, проф. Рождественский, возможно и другие. В виду заявления академика Платонова, что имеется несколько вариантов отречения Николая и его предположения, что это может быть и не оригинал, мною, по согласованию с т. т. Петерсом и Аграновым, было созвано специальное совещание с участием академиков Ферсмана, Ольденбурга, Борисяк, проф. Никифорова, Щеголева, зам. зав. Ленинградским Отделом Центроархива, и специалистов по автографии. Изучение этой подписи продолжалось с 2 по 5 часов дня. Совещание единодушно установило, что это есть оригинал…» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135, л. 5).
Во втором разделе своего отчёта «14-я комната» Фигатнер рассказал о других важных находках в рукописи отделения Библиотеки Академии наук. «В 14-й комнате, — уточнил он, — нами найдены и изъяты: часть архива Департамента полиции; 3-го Департамента жандармского корпуса; Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей; архив ЦК кадетов, часть архива ЦК эсеров; материалы Петербургской охранки; архив Сватинова, комиссара Временного Правительства, материал, по словам т. Агранова, имеющий чрезвычайно крупное значение в связи с возможностью установления целого ряда агентур охранки; архив митрополита Антона Старицкого (сейчас он в Соловках)…».
Третий раздел отчёта был посвящён находкам в Пушкинском доме, в частности, архиву бывшего шефа корпусов жандармов Джунковского. Об изъятых докладах штаба армии Николаю II Фигатнер рассказал в четвёртом разделе отчёта «Археографическая комиссия». Кроме того, Фигатнер сообщил о найденных его комиссией в Ленинграде еще десяти важных фондах. «Все эти материалы, — подчеркнул он, — опечатаны и находятся под охраной. Мною также опечатаны два подвала магазина нешифрованного фонда. По заявлению заведующего этого нешифрованного фонда Срезневского, там имеется ещё очень много чрезвычайно ценного интересного для нас материала». Отдельно Фигатнер прошёлся по некоторым академическим институтам и комиссиям, в которых, по его мнению, могли в тайне от Кремля храниться секретные документы. Далее Фигатнер сообщил, что чекисты уже провели первые задержания, а также попросил Центр выделить группу специалистов, которая могла бы в течение месяца разобраться с остававшимися в нешифрованном фонде Академии наук материалами. По поручению Орджоникидзе отчёт Фигатнера 28 октября был разослан всем членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК ВКП (б)».
Политбюро ЦК, рассмотрев сразу обе шифровки Фигатнера и Кирова, опросным порядком постановило: «Принять предложение т. Орджоникидзе о создании, согласно предложению т.т.Кирова и Фигатнера, комиссии РКИ для приёма дел и расследования всего дела в составе т.т.Фигатнера (председатель), Петерса и Агранова». Петерс, как известно, входил тогда в состав коллегии ОГПУ, а Агранов руководил в чекистском ведомстве секретно-политическим отделом. Уже 23 октября чекисты выписали первые ордера на аресты подозреваемых.
24 октября Фигатнер, Петерс и Агранов вначале вызвали на беседу Ольденбурга, а затем произвели «опросы» В. Срезневского, И. Кубасова, Н. Измайлова и С. Платонова. Особый интерес представляют результаты опроса чекистом Аграновым академика Платонова, взглянем на них внимательнее на основе материала, опубликованного в 1993 году в журнале «Исторический архив» (№1).
«Агранов: У меня вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, когда Вам стало известно, что в Рукописном отделении Академии наук хранятся подлинные акты отречения Николая и Михаила Романовых?
Платонов: Точной даты не могу сказать, но думаю, вероятно, 1927 г.
Агранов: От кого впервые стало известно?
Платонов: Я скажу. Это история довольно случайная. Я сделался директором Библиотеки в 25 г. Ничего об этом не знал. Незадолго до своей кончины Модзалевский передал четвертушку бумаги (на каком-то бланке) о том, что сенатор Дьяконов и Старицкий передают через Котляревского (покойного) Академии два акта на хранение в Библиотеке. Т.к. рукописное отделение было под моим начальством, я отправился к Срезневскому (к начальнику отделения), предъявил бумагу и сказал: «У Вас?» — Говорит: «Да». — «В описи есть?» — «Есть». Я не знаю, цела ли книга и имели ли Вы её? Был пакет Старицкого, №607 и был сбоку четырёхугольник (диагональ и какой-то значок). Говорит: «Что это?» — «Это обозначение, что мы получили». — «Покажите». Он показал, и я приказал хранить эту четвертушку вместе.
Агранов: Вы сказали Ольденбургу, что хранятся такие акты?
Платонов: Да, но должен сказать, не придал значения уникального, потому что из литературных источников знал, что несколько раз переделывался текст.
Агранов: По воспоминаниям Шульгина известно, что подлинник, на котором подписывался Николай, имел подчистку.
Платонов: Я не заметил. Должен сказать, не придал значения».
Очень подробно вся эта история с найденным в фондах Библиотеки Академии наук СССР «актом отречения царя» описана в статье питерского журналиста Михаила Сафонова в международной газете «Х-файлы. Секретные материалы 20 века» в статье «Академическое дело и отречение царя» от 13 мая 2013 года, №11 (371), поэтому особо интересующихся деталями этой истории отсылаю к ней.
Я сейчас намеренно оставляю в стороне не только все многочисленные недоуменные вопросы, но также и полностью справедливые оценки тому бардаку, который, если верить вышеупомянутым историческим источникам, творился во многих советских учреждениях «колыбели Великой Октябрьской социалистической революции» — города Ленинграда — более чем через десятилетие после большевистского переворота и завершения гражданской войны в центральной части России. Архивы царской полиции в Пушкинском доме — это уже само по себе звучит почти как политический анекдот! Но ведь по «делу академиков» прошло в общей численности ни много, ни мало порядка 150 человек, причем большинство из них, по данным следствия, составляли «скрытые контрреволюционеры-монархисты».
Напомню в этой связи следующее немаловажное обстоятельство: с марта 1918 года архивами в России заведовало Главное архивное управление при Наркомпросе РСФСР — главном заповеднике троцкизма в тот период, контролировавшем в 1920—1930 гг. практически все культурно-гуманитарные сферы: образование, науку, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, охрану памятников архитектуры и культуры, творческие объединения и пр. С января 1922 по февраль 1925 года все исторические архивы в стране были полностью децентрализованными, ими фактически руководили и бесконтрольно хозяйничали в них местные губернские власти. Лишь в 1938 году НКВД наложило суровую «лубянную лапу ЧК» на архивное дело в стране и создало Главное архивное управление НКВД СССР (Главархив СССР). Приравняв тем самым по своему статусу военнослужащих и вольнонаемных работников госархива и, к примеру, того же ГУЛАГа.
Всем хорошо известно, что Григорий Евсеевич Зиновьев (он же Овсей-Гершон Аронович Радомысльский), ближайший друг и сподвижник своего не менее знаменитого земляка Льва Давидовича Троцкого (Бронштейна), до 1926 года являлся членом Политбюро ЦК, руководил Петроградским (Ленинградским) Советом и, одновременно, возглавлял Исполком Коминтерна — основной руководящий орган советской разведывательной структуры того периода. В стольном граде Питере общепризнанный в СССР «революционный диктатор» и «вождь Коминтерна» мог в те веселые времена творить все, что ему заблагорассудится! Ведь не зря же ему дали популярную в народе кличку «Гришка Третий» (следующий по большому историческому счету после Отрепьева и Распутина). Итак, объединенные троцкисты-зиновьевцы Ленинграда имели прямой и бесперебойный доступ к важнейшим архивным материалам, в том числе и относившихся к истории с отречением от трона Николая II. Отношение к ним они имели самое что ни на есть непосредственное, но всячески маскировали свою глубинную политическую заинтересованность интересами «правильного, истинно классового подходе» в освещении содержимого данных документов некими таинственными происками «недобитых монархистов», якобы тесно связанных с «мировой закулисой».
Вот еще один любопытный документ на ту же тему. 5 ноября 1929 года вопрос о находках в библиотеке Академии наук обсудило Оргбюро ЦК ВКП (б). Бюро постановило: «Для приёма и разбора материалов специального характера назначить комиссию в составе: т.т.Фигатнера (предс.), Пятницкого, Ярославского, Савельева» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135, д. 25). Подписал постановление секретарь ВКП (б) А.П.Смирнов, бывший депутат разогнанного большевиками Учредительного собрания, бывший нарком земледелия РСФСР и глава Крестьянского Интернационала (Крестинтерна, был в нашей отечественной истории и такой орган), будущий оппозиционер из среды т.н. рыковской школы. Можно только догадываться, как распорядилась «документами специального характера» полномочная комиссия указанного состава… Да там только один Емельян Ярославский (Миней Губельман), лидер «Союза воинствующих безбожников» м глава Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП (б) (она же Комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства) чего стоил…
Чем закончилось в итоге «академическое дело» (или «дело историков»)? А вот чем. В феврале 1931 года на имя И.В.Сталина ОГПУ подготовило докладную записку об окончании следствия по делу «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России» следующего содержания.
«Совершенно секретно
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Сталину
Следствие по делу «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России» — монархической организации, возглавлявшейся академиком С. Ф. Платоновым, закончено. Показаниями арестованных членов организации: Платонова, Тарле, Любавского, Лихачева, Рождественского, Бенешевича, Измайлова, Андреева и других установлено: организация ставила своей целью свержение советской власти при помощи вооруженного восстания и иностранной военной интервенции и установление конституционной монархии во главе с бывшим великим князем Андреем Владимировичем.
В основу программы организации легли следующие положения. «Будущая» Россия мыслилась как федерация отдельных государств, имеющих свои правительства, парламенты, свободу языка и культурного развития, но сплоченных в единое целое Всероссийским правительством, возглавляемое монархом. Такие автономные государства предполагались на Украине, Кавказе, в Сибири и на Дону. Лимитрофные государства должны были войти в федерацию. Самостоятельность признавалась лишь за Польшей и Финляндией. На первое время после переворота предполагалось установление военной диктатуры с генералом Лохвицким (видный белоэмигрантский деятель) в качестве диктатора.
В области народного образования предполагалось восстановление дореволюционных норм, как для высшей, так и средней школы. В области церковной политики предполагалось заключение унии католической и православной церквей. Организация ориентировалась на Германию, с которой предполагалось заключение тесного военно-политического и экономического союза.
Возникновение организации относится к 1925 г., окончательное оформление и укрепление — к 1928 г. За время своего существования организаций проведены следующие практические мероприятия:
1. Установлена тесная деловая связь с националистической партией Германии в лице ее лидеров — профессоров Отто Гетч, Отто и Ионас Шмидт. Одновременно установлена связь с немецкой фашистской организацией «Stahl Helm» (О. Гетч является одним из руководящих деятелей этой организации) 71. Сношения с немецкими националистами поддерживались во время заграничных поездок Платонова, Тарле, Егорова и других членов организации. Немцы оказывали регулярную денежную помощь «Всенародному союзу» (около 5 тыс. рублей ежемесячно). Между руководителями «Всенародного союза борьбы» Платоновым, Тарле, Егоровым и другими представителями немецких монархических кругов неоднократно велись переговоры о военной интервенции Германии в СССР. По плану организации интервенция предполагалась не позже весны 1931 г. и должна была начаться высадкой десанта германских войск со стороны Балтийского моря с одновременным нападением на Ленинград и другие пункты СССР германского воздушного флота, база которого устраивалась в Финляндии. «Стальной шлем» обязывался выставить 15 тысяч вооруженных и обученных бойцов, которые должны были руководить действиями повстанческих отрядов.
2. По поручению организации академик Тарле неоднократно вел переговоры с отдельными общественными и политическими деятелями Франции с целью подготовки общественного мнения к интервенции. Целью переговоров Тарле было установление делового контакта с французскими государственными деятелями и получения от них согласия на германскую интервенцию в СССР.
3. Организацией было заключено соглашение с Ватиканом, который обязывался на основе создания унии католической и православной церквей вести антисоветскую пропаганду за границей и финансировать деятельность «Всенародного союза борьбы». Переговоры с Ватиканом вел профессор Бенешевич-канонист, член-корреспондент Всесоюзной Академии Наук и член Берлинской академии наук. Соглашение было утверждено папой Пием XI, с которым Бенешевич имел личное свидание в 1928 г. В исполнение своих обязательств Ватикан перевел «Союзу» 350 тыс. рублей и развил интенсивную антисоветскую деятельность за границей.
4. В деятельности «Всенародного союза» за рубежом принимали активное участие видные белоэмигрантские деятели (Коковцов, Маклаков, Струве, Лохвицкий и другие). Платонов по поручению «Всенародного союза» вел переговоры в 1928 г. в Берлине с бывшим великим князем Андреем Владимировичем, от которого он получил согласие на «восшествие на российский престол».
5. Платонов был тесно связан с немецким консулом в Ленинграде Цехлиным, который был в курсе деятельности организации. Платоновым регулярно передавались немцам отчеты в израсходовании полученных сумм. Отчеты сопровождались сообщением информационных сведений о внутреннем политическом положении СССР, о состоянии Красной армии и о деятельности Коминтерна. Руководитель военной группы организации Измайлов регулярно доставлял заграницу генералу Лохвицкому сведения о состоянии Красной армии. Руководящим центром организации было намечено будущее правительство во главе с академиком Платоновым и Коковцовым. «Всенародным союзом борьбы» была развернута энергичная деятельность внутри СССР: 1. Была создана военная группа организации, состоявшая из бывших офицеров (Измайлова, Петрова, Пузинского, Кованько и других), выработавшая конкретный план захвата Ленинграда и готовившая вооруженное восстание к началу интервенции. 2. Велась большая пропагандистская работа и работа по подготовке антимарксистских научных кадров, а также кадров будущих государственных деятелей. С этой целью была создана сеть кружков, находившихся под руководством отдельных членов организации. Эта сеть охватывала несколько сот научных работников в одном только Ленинграде. 3. Организацией велась работа по созданию центров «Всенародного союза» на периферии. В Москве существовал Московский центр, в состав которого входили академик М. К. Любавский и профессора: Д. И. Егоров (заместитель директора Публичной Библиотеки СССР имени Ленина), Готье и Бахрушин.
Одновременно с «Всенародным союзом» раскрыта и ликвидирована немецкая шпионская сеть, возглавлявшаяся ученым, сотрудником Академии Наук профессором Мервартом. Мерварт — старый немецкий шпион (с 1913 г.), состоял видным членом «Всенародного союза борьбы», являясь, по существу, эмиссаром немецкой разведки при руководящем центре этой организации и посредником между академиком Платоновым и немецким консулом в Ленинграде Цехлиным. Мерварт дал откровенные показания о своей роли во «Всенародном союзе», а также о своей шпионской сети, состоявшей преимущественно из инженеров и научных работников, служивших в различных учреждениях, занимавшихся, главным образом, изучением естественных производительных сил СССР.
Полагаем целесообразным дело «Всенародного союза» рассмотреть на судебном заседании Коллегии ОГПУ. Зам. председателя ОГПУ Ягода». (Источники: «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922 — 1934 гг.). Т. 9. М. — 2013, стр. 458—460; Архив ФСБ РФ: Ф. 2. Оп. 9. Д. 513. Л. 1 — 4. Копия).
Итак, согласно документальным свидетельствам эта очень мощная и достаточно разветвленная промонархическая организация существовала в стране, начиная с 1925 года. Об этом же свидетельствует и содержание составленного 3-м отделением СО ОГПУ «Меморандума о ликвидации за последние два года наиболее серьезных контрреволюционных организаций», в котором говорилось: «В ряду таких контрреволюционных организаций, которые создавались при непосредственном участии интеллигенции или при ее прямом руководстве, обращают на себя особое внимание нижеследующие:
1. Группа вредительских организаций (Шахтинское дело, дело сотрудников НКПС, дело работников военной промышленности и целый ряд аналогичных по характеру более мелких организаций).
2. «Союз восстановления правопорядка и законности». Организация эта, раскрытая нами в Ленинграде в 1930 г., возглавлялась академиком Платоновым и таилась в недрах Академии наук. Возникла еще с 1927—28 гг. и была организована черносотенной профессурой совместно с активными деятелями германского «Стального Шлема» и германской разведки. Этими организациями «СВПЗ» и финансировался.
В задачу организации входило восстановление в СССР конституционной монархии во главе с бывшим князем Андреем в качестве монарха.
Свержение советской власти, по мысли руководителей «СВПЗ», возможно было при помощи интервенции, но лидеры «СВПЗ» считали, что к моменту вторжения иностранных войск в пределы СССР они смогут организовать восстание в Ленинграде и в других городах. «СВПЗ» пытался организовать свои филиалы в Москве, Одессе и Поволжских городах.
В Ленинграде «СВПЗ» имел ряд кружков из антисоветской молодежи, главным образом из детей бывших дворян. С этой молодежью велась систематическая работа. Из молодежи готовились кадры, которые должны были развивать дело «освобождения России». «СВПЗ» широко использовал для своей работы аппарат и авторитет Академии наук. В 1929 г. «СВПЗ» наметил правительство, которое должно было взять власть в свои руки после падения советского строя.
Кроме Германии, с которой предполагалось заключить военно-политический союз, «СВПЗ» пытался найти поддержку в реакционных кругах Франции и через Б.Н.Бенишевича связан был с Ватиканом. Из эмигрантских организаций «СВПЗ» был связан с Высшим Монархическим Советом.
Кроме того, через отдельных членов «СВПЗ» имел связи с крупными контрреволюционными организациями, которые ликвидированы были в Ленинграде в 1928—29 гг. — «Воскресение» и «Братство Серафима Саровского» (религиозно-монархические организации, в состав которых входили главным образом бывшие дворяне)».
Вполне резонно возникает вопрос: если СВПЗ, как и «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России», был действительно связан с Высшим монархическим советом, имел свои многочисленные филиалы в Москве, Одессе и других городах СССР, то в каких отношениях он должен был находиться с легендированной стараниями ОГПУ «Монархической организацией Центральной России» (МОЦР) и ее полномочным эмиссаром в Минске, Киеве, Москве и Ленинграде В. В. Шульгиным в начале 1926 года? И были ли, в частности, попытки прояснить с его помощью таинственную историю появления «царского манифеста» в закрытом фонде Библиотеки Российской академии наук?
Чуть ранее я упоминал, что В.В.Шульгин, как ни странно это выглядит, к весьма специфической спецслужбистской деятельности имел самое прямое и непосредственное отношение. Причем это имело место зачастую с совершенно разных, порой достаточно неожиданных, сторон, и отмечалось в эпизодах, в которых Шульгин выступал в самом различном качестве — начиная от руководителя разведывательной сети белого движения на Юге России и заканчивая деятельностью в качестве завербованного агента французской, британской, польской и румынской разведок.
Сегодня, например, из художественной, научной и специальной литературы хорошо известно, что в 1921—1927 гг. чекистами проводилась масштабная оперативная игра, основной целью которой было выведение на советскую территорию с последующим арестом и физической ликвидацией ряда наиболее опасных руководителей контрреволюционных организаций. базирующихся на территориях некоторых европейских государств, в частности, Польши. Франции, Германии, Финляндии, Бельгии, Сербии, Болгарии и др. Некоторые исследователи разделяют эту игру на две ее основные составные части — под условными названиями «Операция «Трест» и «Операция «Синдикат-2». Но на самом деле у этой оперативной игры был и единый стратегический замысел, и однотипный характер легендирования проводимых в ходе игры операций, и практически один и тот же состав участников и исполнителей. Характерно, что подавляющее большинство сотрудников и агентов органов ГПУ-ОГПУ, задействованных в оперативной игре, были в последующем репрессированы именно как активные участники троцкистского подполья в СССР.
В официальной историографии Службы внешней разведки РФ операции «Трест» и «Синдикат-2» трактуются «как начало зарождения эпохи планомерной деятельности советской разведки за рубежом», хотя на деле их проведением занимались в основном органы советской контрразведки, а если быть совсем уж точным — военной контрразведки. Вначале это был Особый отдел ВЧК-ГПУ, руководимый лично Ф.Э.Дзержинским, а затем КРО ОО ГПУ-ОГПУ, возглавляемый А.Х.Артузовым (Фраучи). С точки зрения нынешней направленности деятельности основных структур отечественных специальных служб их вполне можно было бы отнести в внешней контрразведке, хотя основная часть работы именно по этому направлению обеспечивалась, прежде всего, через соответствующие специализированные структуры Исполкома Коминтерна (ИККИ).
По достаточно широко бытующей ныне версии, главным идеологом затеянной чекистами широкомасштабной оперативной игры стал генерал-лейтенант, бывший заместитель (товарищ) министра внутренних дел и командующий Отдельным корпусом жандармов Российской империи, бывший московский генерал-губернатор Владимир Федорович Джунковский (мой земляк, кстати, выходец из дворян Полтавской губернии). Тот самый, чей личный архив длительное время хранился в Пушкинском доме… Он резонно полагал, что розыск наиболее активных контрреволюционеров, особенно из числа их боевой, террористической части, является малоэффективным занятием, и поэтому предложил руководству ВЧК дезинформацию в качестве основного способа нейтрализации усилий противника.

Основной смысл предложенной им схемы продвижения дезинформации заключался в создании продуманной и взаимосвязанной сетевой структуры «ложных целей» как в виде реально существующих, но полностью подконтрольных чекистам, так и вымышленных, вовсе не существующих в природе подпольных антисоветских организаций. Основной целью чекистских операций с участием легендированных подпольных организаций было: пресечение попыток совершения актов массового террора со стороны эмигрантских контрреволюционных организаций, дезинформирование спецслужб ряда зарубежных государств, отвлечение сил и средств эмигрантских кругов и стоящих за ними спецслужб на проведение самых различных контролируемых мероприятий специального характера.
Какие-то цели при этом преследовались противной стороной (ведь организация подобных операций — это, отнюдь, не «игра в одни ворота», какой-то положительный эффект, профит от них непременно достигается и противником), поэтому здесь особенно важен общий итог в виде положительного или отрицательного сальдо баланса, выражаясь цветистым языком бухгалтерии. При этом, на мой взгляд, гораздо более существенным является другое: а кто в них играл роль противоборствующей стороны для контрразведчиков ГПУ-ОГПУ?. Думаете, спецслужбы империалистических государств и связанные с ними белоэмигрантские организации? Я так не думаю.
И в качестве предмета для размышлений на эту тему приведу один очень примечательный отрывок из «Неопубликованной публицистики» В.В.Шульгина под названием «Трест», приведенный в «перестроечном» издании его книги «Три столицы». (Шульгин В. В., «Три столицы». — М., Современник,1991, (Серия мемуаров «Память»), стр. 385—389). Процитирую его здесь с некоторыми несущественными сокращениями.
«Трест (история возникновения книги «Три столицы»)
В книге «Три столицы» изложена моя нелегальная поездка в Советскую Россию в конце 1925-го и начале 1926 года. Ездил я тогда по России конспиративно, будучи белым эмигрантом. Покровительствовала мне подпольная антисоветская организация под названием «Трест». История этого «Треста» до сего дня так же «темна и непонятна», как история мидян.
Органы советской власти о «Тресте» разноречат. Одни считают, что это была настоящая контрреволюционная и очень сильная организация, имевшая свой центр в Москве, другие полагают, что «Трест» был так называемая «легенда», т. е. организация, устроенная агентами власти в целях провокационных. Во всяком случае, именно эта организация дала мне возможность конспиративно приехать в Россию. Главой ее был некто Александр Александрович Якушев. До революции он был видным работником по внутренним водам с чином IV класса, «его превосходительство». Троцкий, который в то время был очень силен, узнав о нем, пригласил его к себе. Якушев ответил, что добровольно он к Троцкому не пойдет. Тогда за ним послали солдат и привели его недобровольно. Троцкий встретил его с изысканной любезностью и угостил превосходным обедом, что в те времена было аргументом не из последних, так как все голодали. За этой трапезой Троцкий говорил так:
— Александр Александрович, мы прекрасно знаем, кто вы. Вы русский патриот. Так вот, оставайтесь тем, что вы есть. Кроме того, вы еще патриот своего дела, своей специальности. Я думаю, что у вас есть широкие планы насчет того, что можно сделать с русскими реками. Но когда вы делились этими планами с царским правительством, вам неизбежно отвечали: «На это у нас денег нет, есть нужды более насущные». Не так ли?
— Да, это верно, — сказал Якушев.
— Так вот, — продолжал Троцкий, — у нас, большевиков, на такие дела деньги найдутся. Дайте только конструктивные идеи, а мы их осуществим.
Таким образом, Троцкий, между прочим, очень умный человек, поймал Якушева на крючок, нажав на педаль профессионального патриотизма. Якушев стал работать, и так усердно, что ему дали заграничную командировку для ознакомления с тем, что делается на Западе по его специальности…
Тайно проникнув в Россию в 1926 году, я не проявил себя явно и не стал работать с советской властью, а стал работать с заговорщицкой дружиной под эгидой Якушева. Мы хотели реформировать Россию по примеру Запада и не верили в творческую силу насильственного коммунизма. Бросающееся в глаза возрождение России под дуновением нэпа укрепляло нас в этих мыслях. Когда я уезжал из России (это было в начале февраля 1926 года), Якушев пригласил меня на прощальный обед, на котором присутствовало еще два лица из состава «Треста», а именно — описанный впоследствии в книге «Три столицы» Антон Антонович и неизвестный мне господин средних лет, который, кажется, был Опперпут. Во время обеда я спросил:
— Вы так много сделали для меня (я подразумевал их старания найти моего сына, ведь причиной моего приезда в Россию было именно это). Что я со своей стороны могу сделать для вас?
Якушев ответил:
— Мы хотели попросить вас, чтобы, вернувшись в эмиграцию, вы написали книгу о вашем пребывании в России.
Я ответил:
— Ни в коем случае я этого не сделаю.
— Почему?
— Потому что я напишу книгу и напечатаю ее, а вас тут перехватают чекисты. Как я могу быть уверенным, что мои рассказы не подведут вас?
Меня убеждали, чтобы я ничего не боялся. Но я ответил:
— Я исполню ваше желание только под одним условием.
— Именно?
— Можете ли вы устроить так, чтобы вся моя рукопись побывала у вас и чтобы вы вычеркнули все из нее, что представляет опасность.
Подумав, Якушев ответил:
— Это возможно…
И это было сделано. Весь текст книги «Три столицы» побывал в Москве и потом вернулся ко мне в эмиграцию. Якушев вычеркнул только две строки.
Между прочим, вот почему я думаю, что преждевременно называть «Трест» легендой, созданной чекистами ради провокации. Быть может, когда-нибудь окажется, что чекисты того времени играли на две стороны. Шла тайная, но жестокая борьба между двумя претендентами на власть — Троцким и Сталиным. Тогда еще не было известно, кто победит. Под крылышком Троцкого собирались самые различные антисоветские и антисталинские группировки. Якушев определенно опасался Сталина. Быть может, ему было известно завещание Ленина, предупреждавшего партию в отношении Сталина. Якушев был несомненным троцкистом в том смысле, что он считал Троцкого умным и деловитым. Нерешенная в то время борьба между Троцким и Сталиным должна была влиять на тогдашних чекистов. Об этом можно думать, учитывая, например, роль Ягоды, одного из руководителей ОГПУ, расстрелянного Сталиным впоследствии.
Однажды Якушев сказал мне:
— Что вы думаете о «Тресте»?
Я ответил:
— Я думаю, что «Трест» есть антисоветская организация, и притом очень сильная, т. к. она не боится всесильной руки ВЧК.
На это он сказал:
— «Трест» — это измена, поднявшаяся в такие верхи, о которых вы даже не можете и помыслить.
Размышляя об этом предмете сейчас, я думаю: не следует ли под выражением «такие верхи» понимать верховных чекистов? Чекисты заколебались, не зная, кто победит, и на всякий случай пригревали и троцкистов. Троцкий покровительствовал Якушеву, а поэтому последний и не боялся ВЧК. Вот, дорогой читатель, в какие дебри мы забрались, желая быть историчными, т. е. правдивыми. Но полагаю, что наши блуждания не без пользы. Теперь должно быть ясно, почему я не остался в Советском Союзе в 1926 году, а исполняя желание Якушева, вернулся в эмиграцию и написал книгу «Три столицы», в которой рассказал, что в России есть внутренние силы, активно борющиеся с Советской властью, и объяснил, за что они борются».
Итак, снова на авансцене тогдашней внутриполитической жизни СССР замаячила тень… нет, не отца Гамлета, а Л.Д.Троцкого. Вы, надеюсь, слышали о таком политическом явлении как «энтризм»? Энтризм (также называемый энтеризмом или проникновением, от французского и английского слова «enter» (входить, вступать) — политическая стратегия, при котором организация или государство призывает своих членов или сторонников вступать в другую, обычно более крупную, организацию с целью распространения в ней своего влияния, идей и программных установок. Если организация, в которую «вступают», враждебна энтризму, участники могут прибегать к определенным уловкам и к подрывной деятельности, чтобы скрыть тот факт, что они сами по себе являются организацией. Классический пример проникновения масонских структур в состав Первого и Второго Социалистических и Третьего Коммунистического Интернационалов я приводил в книге «Зарубки на гриппозной сопатке».
С этим понятием тесно связано понятие «пятая колонна», под которой обычно понимают любую группу людей, которые подрывают более крупную группу или нацию изнутри, обычно в пользу вражеской группы или нации. Энтризм, как известно из мировой истории, активно использовался троцкистами, проникавшими в уже существующие массовые организации рабочего класса — реформистские социал-демократические и коммунистические (сталинские) партии, а также в связанные с ними профсоюзы с целью постепенной их радикализации. Так, в июне 1934 года Троцкий одобрил идею вступления троцкистов во Французскую секцию Рабочего интернационала (СФИО) в ожидании существенных благоприятных перспектив для развертывания «революционно-социалистической агитации» в условиях активного формирования единого Народного фронта». Закончилось это формированием в июне 1936 года коалиционного правительства Леона Блюма, которого «Википедия» как первого социалиста и еврея во главе французского правительства. Он был сыном эльзасского купца и фабриканта шелковых лент Авраама Блюма, вступившим в политику под влиянием «дела Дрейфуса», издателем печатного органа будущей Французской компартии — газеты «Юманите», членом Еврейского агентства Хаима Вейцмана и будущим узником гитлеровского концлагеря Бухенвальд.
Закономерно возникает вопрос: а почему энтристская политическая методика Троцкого не могла использоваться им и его активистами (которых в ОГПУ было более чем достаточно) в истории с созданием легендированных эмигрантских организаций? Что, на ваш взгляд, вытекает из процитированного мною выше отрывка, относящегося к событиям 1926 года (прошу отметить это обстоятельство особо!)? На мой взгляд, то, что и операция «Трест», и операция «Синдикат-2» уже потеряли к тому времени свой первоначальный смысл и первоначальную направленность — прежде всего на «выманивание» на территорию СССР и физическое уничтожение наиболее заядлых врагов советской власти. Таких, например, как Сергей Павловский, Борис Савинков, Сидней Рейли и целый ряд других. Павловский был арестован вместе с Шешеней еще в сентябре 1923 года. Савинков вместе с Фомичевым и супругами Дикгоф-Деренталь был арестован 16 августа 1924 года в Минске, уже через десять дней — 25—29 августа состоялся судебный процесс по делу Савинкова, а в мае 1925 года он был уже мертв. Кстати, в том же 1924 году в СССР «Литиздатом НКИД» был издан полный стенографический отчет по процессу Савинкова с рядом его автобиографических приложений, вот он.
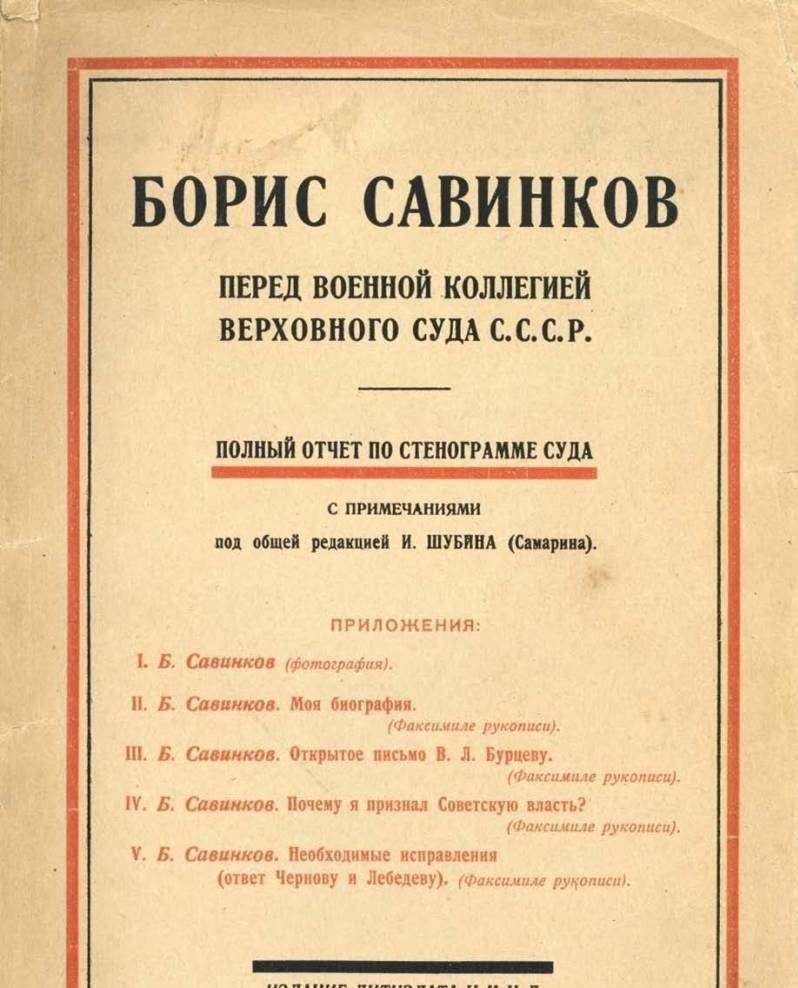
То есть, для белоэмигрантского зарубежья все последующие перипетии случившегося с Б. Савинковым в СССР конфуза из-за вымышленной организации «Либеральный демократы» в 1925 году никакого секрета уже не представляли. Британский разведчик Сидней Джордж Рейли (Шломо Розенблюм) был арестован в сентябре 1925 года на финской границе, и в ноябре 1925 года он был расстрелян в Москве по приговору 1918 года по делу Локкарта. Значит, и его «шпионская одиссея» закончилась в 1925 году, больше чекистам было некого выманивать в СССР из белоэмигрантского подполья, если не считать руководителей Российского общевоинского союза во главе с генерал-лейтенантом бароном П.Н.Врангелем. Но и с ним самим, и с его соратниками генералами А.П.Кутеповым и Е.К.Миллером советские спецслужбы, как теперь известно, «разобрались» позднее несколько иными способами, хотя тот же В.В.Шульгин (может быть, сам того не подозревая) сыграл в этом эпизоде одну из ключевых ролей. Как известно, он нелегально находился в СССР в период с 23 декабря 1925 года по 6 февраля 1926 года, то есть уже после смерти Савинкова и Рейли. И тот факт, что он благополучно вернулся в Западную Европу, явно сыграл «на руку» якушевской легенде о реальности существования мощной Монархической организации Центральной России (МОЦР), которая просуществовала в воображении руководства белоэмигрантских кругов на Западе еще целый год.
Почему В. В. Шульгин пользовался в тот период достаточно весомым авторитетом не только в чисто политических, но также и в военно-политических кругах русской эмиграции, был «своим человеком» в среде бывших сотрудников различных спецслужб царской России? Да хотя бы потому, что к их специфической деятельности он имел самое прямое и непосредственное отношение. Примерно с 1993 года в отечественной научной литературе нарастающим потоком стали появляться публикации, посвященные деятельности т.н. подпольной организации «Азбука». По данным «Википелии», «Азбука» — условное название тайной организации Белого движения, базировавшейся на Юге России. Разведывательное, осведомительное отделение при Ставке верховного главнокомандования Вооружённых сил на Юге России. Существовала с конца 1917 года, хотя формально была оформлена в марте 1918 года, по декабрь 1919 года, при этом деятельность некоторых отделений продолжалась до начала 1920 года. С марта 1918 года возглавлялась видным общественным и политическим деятелем Российской империи В.В.Шульгиным».
Занимательно, однако… То, что раньше было известным лишь отдельным работникам центрального аппарата и ряда территориальных органов КГБ, а также центрального архива, внезапно бурным потоком просочилось в публичное пространство и стало достоянием весьма обширного круга лиц, живо интересующихся историей отечественных спецслужб. Вначале в Санкт-Петербурге в серии «Русское прошлое» в 1993 году появилась публикация В.Г.Бортневского «К истории осведомительной организации «Азбука». Из коллекции П.Н.Врангеля (архив Гуверовского института), а в 1997 году в журнале «Источник» была опубликована его же статья под названием «Сотрудники «Азбуки» свято исполнили долг». Примерно в тот же период в четвертом выпуске того же питерского альманаха «Русское прошлое» (издательство «Логос») был опубликован сводный (хотя, как особо отмечалось, неполный, насчитывающий около 110 фамилий) список сотрудников этой загадочной организации.
Наконец, в 2003 году в журнале «Новая и новейшая история» появилась обширная совместная исследовательская публикация двух авторов — доктора исторических наук А.В.Репникова и одного из руководителей Центрального архива ФСБ РФ В.С.Христофорова — под названием «В. В. Шульгин — последний рыцарь самодержавия. Новые документы из Архива ФСБ». Ее ценность заключается в том, что, в отличие от многочисленных пересказов детективных фантазий в духе наиболее выдающихся рассказчиков фольклора одесского Привоза и Молдаванки в духе «гениального и выдающегося» местечкового писателя, журналиста, сценариста, драматурга и психоневролога Исаака Бабеля (Исаака Маньевича Бобеля), в статье приводятся полные тексты двух протоколов допросов В.В.Шульгина оперативными и следственными сотрудниками «СМЕРШ», датированные январем 1945 года. На их содержание я в основном и буду опираться в характеристике всей «разведывательно-контрразведывательно-шпионской» активности В.В.Шульгина в довоенный период.
Из протокола допроса Шульгина Василия Витальевича старшим оперуполномоченным 3 отделения 1 отдела Управления контрразведки «Смерш» 3-го Укр [аинского] фронта капитаном Кацалаем и оперуполномоченным 3 отделения 1 отдела УКР «Смерш» 3-го Украинского] фронта лейтенант Шешиным от 17 января 1945 года (ЦА ФСБ РФ, д. N Р-48956. л. 10 — 18. Подлинник. Рукопись). «1 марта 1918 г. гор. Киев был занят немецкими войсками, в связи с этим я выпустил один номер газеты «Киевлянин» с передовой статьей, в которой указывал следующее: «…что закрывая газету, существовавшую 50 лет, обязан сказать, что немцев мы должны рассматривать как врагов, потому что война продолжается, а мы дали слово англичанам и французам вести борьбу против общего врага…". Вследствие этой статьи ко мне на четвертый день явился представитель французской военной разведки, назвавшийся капитаном Энно, и поблагодарил меня от лица Франции и одновременно предложил мне сообщать о всех происходящих политических событиях и связь непосредственно поддерживать через его заместителя Циркаль (чех). На предложение Энно я выразил свое согласие и, после чего через Циркаль, посылал сведения информационного порядка о всех происходящих политических событиях.
Вопрос: Значит, Вы завербованы французской разведкой. Расскажите об этом подробно?
Ответ: Да, действительно, в марте 1918 года я был привлечен к шпионской работе со стороны французской разведки капитаном Энно, которому выразил свое согласие, после чего давал материалы информационного порядка о всех происходящих политических событиях и о настроениях населения. Наряду с этим необходимо отметить, что в марте 1918 года я был привлечен к работе со стороны английской разведки капитаном Вебстером, которому также давал аналогичные материалы как капитану Энно, т.е. о всех происходящих политических событиях 1918 — 19 годах.
Вопрос: Воспроизведите текст подписки, данной Вами сотруднику французской разведки капитану Энно и сотруднику английской разведки капитану Вебстер?
Ответ: Подписки о сотрудничестве с французской и английской разведками не давал, но выразил свое устное согласие.
Вопрос: Какие Вы получали задания шпионского характера от французской и английской разведок?
Ответ: В основу моей работы входило сообщать о всех происходящих политических событиях в России, другими сведениями я не интересовался.
Вопрос: Как Вы практически поддерживали связь с французской и английской разведками?
Ответ: С французской разведкой я поддерживал связь через заместителя капитана Энно — Циркелем, с которым встречался два-три раза в месяц и давал материалы, интересующие их. Связь с капитаном Энно и его заместителем поддерживал с марта 1918 по март 1919 года.
С английской разведкой связь поддерживал через капитана Вебстер, которому систематически высылал интересующие его материалы через своих курьеров в гор. Москву. Капитан Вебстер в то время находился на службе при английском посольстве в России и одновременно занимался шпионской работой.
Будучи тайным сотрудником французской и английской разведок я был начальником осведомительной организации при армии генерал-лейтенанта Деникина, носившую название «Азбука». Являясь начальником осведомительной организации «Азбука» занимался агентурно-оперативной работой в частях, входящих в состав армии Деникина, т.е. через свою агентуру вскрывал политические настроения солдат и офицеров и населения города Киева и Одессы.
Вопрос: Сколько у Вас было агентуры при осведомительной организации «Азбука»?
Ответ: Агентурно-осведомительной сети из числа солдат и офицерского состава и курьеров было 50 человек, с вышеуказанной агентурой я и мои подчиненные встречались согласно графиков два-три раза в месяц.
Вопрос: Расскажите о структуре и построении работы в осведомительной организации «Азбука»?
Ответ: Правильной конструкции и построения работы в осведомительной организации (носившей название «Азбука») не было. Весь информационный материал от агентуры получался в устном порядке и затем обрабатывался мною или моим заместителем Сазенко Анатолием Ивановичем и, в секретном порядке, если заслуживал внимания, направлялся через курьеров командующему Добровольческой армией генерал-лейтенанту Деникину.
Вопрос: Сколько времени Вы были начальником осведомительной организации «Азбука» при армии Деникина?
Ответ: Начальником осведомительной организации «Азбука» при армии Деникина я был с марта 1918 года по январь 1920 года и в феврале 1920 года в составе отряда полковника Стесселя бежал из России в Румынию, где в числе других солдат и офицеров я был разоружен и выгнан из пределов Румынии, откуда проник в Одессу, где проживал на нелегальном положении до июля 1920 года, а затем из гор. Одессы выехал в Крым, в армию генерал-лейтенанта Врангеля. При вторичной попытки проникнуть в Одессу для вывозки оставшихся там лиц я был сильным норд-остом выброшен на территорию Румынии в окрестностях гор. Аккермана, где был арестован румынской разведкой за подозрение в принадлежности к большевистской партии.
Вопрос: По каким вопросам Вы допрашивались в Румынской разведке?
Ответ: Будучи на допросах в румынской разведке я допрашивался по вопросам военной обстановки и о численности армии Врангеля и ее вооружении и по своим автобиографическим данным.
Вопрос: Значит, Вы завербованы румынской разведкой?
Ответ: Завербован в румынскую разведку я не был, и сотрудничать с ними никто не предлагал».
Прервемся здесь в повествовании и слегка задумаемся над вышеизложенным. Итак, будучи тайным сотрудником французской и английской разведок, Шульгин одновременно был начальником осведомительной организации при армии генерал-лейтенанта Деникина, носящей название «Азбука». Совершенно очевидно, что добытые этой организацией сведения Шульгин одновременно передавал Деникину, англичанам и французам. Насколько глубокими и насколько ценными могли быть эти устные информационные сведения? Судите сами.
Авторы упомянутой выше статьи Репников и Христофоров дают в ней следующую сноску-разъяснение к документальному материалу. «Азбука» — условное название разведывательного отделения при Ставке Верховного Главнокомандования ВСЮР. Все агенты имели подпольные клички согласно буквам алфавита. Начальником отделения был член Особого совещания В.А.Степанов, его заместителем — жандармский полковник П.Т.Самохвалов. Основная задача — сбор и анализ сведений о внутреннем и внешнем положении России (как «красной», так и «белой»). Главная квартира отделения находилась сначала в Екатеринодаре, а затем в Таганроге. Отделение имело агентуру во многих регионах страны (Москва, Киев, Омск и др.), а также за границей — в Константинополе, Софии, Белграде, Праге и др. В подразделении, занимавшемся внутренней контрразведкой — так называемой «Азбуке наизнанку», — составлялись политические сводки, которые печатались в трех экземплярах и регулярно представлялись председателю особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР A.M.Драгомирову (с сентября заменен А.С.Лукомским), начальнику военного управления особого совещания А.С.Лукомскому и начальнику штаба ВСЮР И. П. Романовскому. В декабре 1919 г. «Азбука» официально была ликвидирована, но фактически ее деятельность продолжалась до начала 1920 г.».
Из всего того, что я почерпнул при чтении протоколов допроса В.В.Шульгина чекистами, скорее проистекает, что главным направлением деятельности этой организации было именно то, что ее непосредственный руководитель сам же изящно определял, как «Азбука наизнанку» — т.е. проведение осведомительской (а возможно и провокаторской) работы по сбору сведений о бытующих настроениях в рядах деникинской армии. Для англичан и французов это, может быть, и представляло определенный интерес, а вот для деникинской контрразведки — вряд ли. Ибо реальных большевистских шпионов ловить — это не сплетни по кухням затурканных обывателей собирать. Какие настроения преимущественно бытовали тогда среди белогвардейцев Юга России — достаточно верно, хотя и в откровенно гротескной форме отразил кинорежиссер Э. Кеосаян в сцене коллективного мордобоя в ресторане в фильме «Новые приключения неуловимых». Какой уж тут сбор «политической» информации, типичная ситуация хаоса в умонастроениях верхушки под названием «что ни поп, то и батька»…
Гораздо интереснее выглядит содержание другого допроса В. В. Шульгина чекистами — от 15 января 1945 г. Там имеются крайне любопытные пассажи, которые уж никак нельзя расценивать, как выбитые у узника силком. Посмотрим на некоторые из них повнимательнее.
«Вопрос: Известно, что, проживая в царской России, Вы принадлежали к наиболее реакционным политическим кругам. Вы признаете это?
Ответ: Да…
Вопрос: Стало быть, вы примыкали к черносотенцам?
Ответ: Да…
Вопрос: Кто возглавлял банды погромщиков в 1905 г.?
Ответ: В 1905 году я видел погром лично. Могу утверждать, что это действительно была банда молодежи, которая громила дома, но кто ею руководил, для меня тогда было неясно.
Вопрос: Когда же у вас появилась ясность по этому поводу?
Ответ: Левые обвиняли в этом правительство, а последнее старалось обелить себя от этого обвинения.
Вопрос: О том, что в погромах было повинно царское правительство — это правильно. Однако известно, что банды погромщиков действовали не от его имени. Кто же является исполнителем тайной воли царского правительства?
Ответ: Это мне неизвестно, но я признаю, что в той мере, в какой наша антисемитская деятельность могла вызвать эксцессы, носившие название погромов, мы, которых называют черносотенцами, несем за это моральную ответственность, потому что наши газетные статьи и речи, падавшие в массы, для людей, недостаточно развитых, являлись подстрекательством к погромам.
В частности, наша газета «Киевлянин» обвиняла евреев в том, что они примкнули к освободительному движению, и придают ему особо активный характер. Такое утверждение было, безусловно, неверным и провоцировало массы к насилию.
Вопрос: Теперь вы признаете, что, будучи одним из видных черносотенцев, вы являлись вдохновителем погромов?
Ответ: Да, признаю».
«В ночь на 2 марта 1917 г. в одной из комнат Таврического дворца собрался комитет Государственной Думы в неполном составе, причем присутствовало, кажется, человек шесть, из которых я помню только Родзянко и Милюкова. Стремясь любыми средствами сохранить монархию и учитывая предстоящее отречение царя от престола, мы решили предложить ему передать престол своему сыну Алексею, а Великого князя Михаила Александровича 97 назначить регентом.
Для этой цели к царю были направлены я и Гучков Александр Иванович. Царский поезд в это время находился на ст. Псков, где мы и застали царя. Последний немедленно нас принял. Гучков в своей речи изложил цели нашего приезда и передал царю подготовленный нами текст отречения. В принципе против отречения от престола Николай II не возражал, однако, с нашим проектом не согласился и заявил, что престол передает своему брату Михаилу Александровичу. К такому решению царя я и Гучков не были подготовлены и обратились к нему с просьбой дать нам некоторое время для обсуждения этого вопроса. Царь разрешил. После краткого совещания мы сообщили Николаю II о согласии с его проектом отречения от престола. При вручении нам текста отречения от престола Николай II по моей просьбе назначил председателем совета министров князя Львова и Верховным главнокомандующим Великого князя Николая Николаевича.
Вскоре же стало очевидным, что наша попытка спасти русскую монархию путем передачи престола другому лицу не удалась. Великий князь Михаил Александрович престола не принял, но поставил условие, чтобы Всероссийское Учредительное Собрание высказало свою точку зрения по вопросу о форме правления Россией. Такое решение Великого князя было вызвано объективной обстановкой, создавшейся к этому моменту в стране, так как в столице при полном разложении гарнизона начали группироваться те силы, которые впоследствии повели революцию по определенному пути. Если бы Великий князь даже и пожелал принять престол, то в силу сложившихся условий он этого сделать не смог бы, так как Россия была уже охвачена революцией.
3 ноября 1917 г. я из Киева выехал на Дон, в г. Новочеркасск.
Вопрос: В связи с чем?
Ответ: В Новочеркасск я выехал в связи с тем, что имел в виду встретиться с генералом Алексеевым. О последнем к этому времени я имел сведения, что он избрал Дон местом для формирования Добровольческой армии…
Вопрос: Стало быть, ваш приезд на Дон имел целью участия в организации Добровольческой армии?
Ответ: Да…
Вопрос: Каким органом вы были арестованы?
Ответ: Я затрудняюсь сказать каким, но, несомненно, что этот арест был произведен представителями Красной Армии. В это время комиссарами Красной Армии производилось большое число арестов, главным образом бывших офицеров царской армии. После ареста я был доставлен в здание царского дворца.
Вопрос: И там подверглись допросу?
Ответ: Нет. Когда меня ввели в одну из комнат этого дворца, то там я был встречен, как впоследствии выяснилось, комиссаром Ремневым. Прием, оказанный мне последним, носил довольно странный характер. Когда ему была сообщена моя фамилия, то оказалось, что я был ему известен как редактор газеты «Киевлянин». Ремнев очень любезно обратился ко мне с предложением выпить чаю, а затем, когда я отказался, заявил, что мне будет предоставлена отдельная комната. Такое отношение на меня произвело странное впечатление, потому что вокруг дворца я видел трупы расстрелянных и как ярый враг большевиков, каким я несомненно был известен арестовавшим меня, я подготовился к самому худшему, однако этого не произошло.
Вопрос: Как же поступили с вами в дальнейшем?
Ответ: Через две недели я был освобожден.
Вопрос: Каким образом?
Ответ: Освобожден я был при совершенно неясных для меня обстоятельствах.
Вопрос: Покажите об этом подробнее?
Ответ: У меня создалось впечатление, что к моему освобождению имел отношение Пятаков.
Вопрос: Какой Пятаков?
Ответ: Это тот Пятаков, который впоследствии был в советском правительстве, а затем разоблачен как враг советской власти, и осужден к расстрелу.
Вопрос: Почему у вас создалось впечатление, что Пятаков мог оказать влияние на ваше освобождение?
Ответ: Этому предшествовал целый ряд обстоятельств.
Вопрос: А конкретнее?
Ответ: Когда я находился под стражей в названном выше дворце, то комнату, где я содержался, посетили два лица. Это были бывшие члены Киевской Городской Думы из большевистской фракции Гинзбург и молодая учительница, фамилию которой я вспомнить не могу. Во фракции большевиков тогда же находился и упомянутый выше Пятаков. Эти три лица мне хорошо были известны по думской деятельности. Разыскав меня среди семисот человек арестованных, находившихся в одной со мной комнате, Гинзбург и учительница заявили мне буквально следующее: «Мы предпримем все усилия к тому, чтобы вас освободить» и предупредили, что, когда будут раздавать передачи от родственников, то фамилия моя называться не будет. Через две недели я был вызван председателем Революционного Трибунала Ахманицким, который и освободил меня из-под стражи…».
«Вопрос: Какую враждебную работу против Советской власти вы проводили в Одессе?
Ответ: Я участвовал там в формировании добровольческих отрядов и принимал меры к тому, чтобы подготовить смену командования Добровольческой армии, так как уже тогда я предвидел, что Деникин, потеряв в войсках авторитет, в связи с отступлением к Черному морю, рано или поздно уйдет в отставку.
Вопрос: Что вы делали в этом направлении?
Ответ: В конце января 1920 года по моей инициативе в квартире члена особого совещания Степанова было созвано специальное совещание, на котором было принято решение на пост Главнокомандующего вместо генерала Деникина подготовить генерала Врангеля, авторитет которого среди Добровольческой армии, даже в то время был весьма значительным.
Вопрос: Кто принимал участие в этом совещании?
Ответ: В совещании участвовали: Степанов Василий Александрович, генерал Драгомиров и я.
Вопрос: Каким образом вы намечали осуществить смену командования Добровольческой армии?
Ответ: Между нами состоялось устное соглашение, которым было предусмотрено, что рано или поздно назреет вопрос об отставке Деникина, и мы наметили, что в этот момент мы предложим ему вместо себя назначить генерала Врангеля…
Вопрос: А ваша контрреволюционная организация функционировать продолжала?
Ответ: Нет.
Вопрос: Почему?
Ответ: Потому что в Одессе на наши следы напали органы Чрезвычайной Комиссии и «Азбука» вынуждена была бездействовать. Руководитель Одесского отделения, мой племянник Могилевский, был арестован. Арест угрожал также и мне. Это обстоятельство вынудило меня из Одессы бежать, а затем, когда я уже был в Севастополе, то в силу сложившихся обстоятельств, официально объявил членом своей контрреволюционной организации полковнику Самохвалову и другим, что впредь «Азбука» функционировать не будет. Этим и завершилась деятельность созданной мной контрреволюционной организации «Азбука».
«Вопрос: Как долго вы пробыли в Советской России?
Ответ: С 23 декабря 1925 года по 6 февраля 1926 г., т.е. полтора месяца.
Вопрос: Какие местности Советской России вы посетили за это время?
Ответ: Кроме Минска я побывал в Киеве, Москве и Ленинграде.
Вопрос: Вы встречались с Якушевым?
Ответ: Да.
Вопрос: При каких обстоятельствах?
Ответ: С Якушевым Александром Александровичем я первый раз встретился в начале января 1926 года в гор. Москве на его квартире (адрес не помню). Встрече с Якушевым предшествовало возникновение знакомства с членом организации по фамилии Шульц, с которым меня связал упоминавшийся выше «Антон Антонович». За все время пребывания в Москве я жил в дачном поселке, где проживал названный Шульц.
Вопрос: Назовите этот дачный поселок?
Ответ: Названия его я не помню, но знаю, что он находится по железнодорожному пути от Северного вокзала, примерно в 30 км.
Дня через два после того, как у меня состоялось знакомство с Шульцем, последний связал меня с Якушевым.
Вопрос: По какому адресу проживал Якушев?
Ответ: Адреса я не помню, но знаю, что в центральной части города.
Вопрос: Сколько раз вы с ним встречались?
Ответ: Три раза.
Вопрос: Какие вопросы обсуждались при этих встречах?
Ответ: При первой встрече присутствовали два неизвестных лица пожилого возраста, по внешнему виду оба представляли из себя солидных людей, причем один из них производил впечатление военного человека, хотя и одет был в гражданской одежде.
В разговоре со мной оба неизвестных строго соблюдали требования конспирации, и, беседуя со мной, интересовались положением русской эмиграции за границей. В частности их интересовали фигуры Врангеля и Кутепова.
По словам Якушева, организация «Трест» имела отношение к польскому генеральному штабу и он, будучи в хороших отношениях с поляками, даже обменялся с кем-то из них оружием и показал мне пистолет с отделанной в золотую оправу рукояткой.
Особо характерным в поведении Якушева было высказанное им сожаление по поводу того, что он не может меня связать с Троцким, которого он рассматривал как «государственного деятеля большого ума». В этом же разговоре он неожиданно поставил такой вопрос: «Вы знаете, что такое «Трест». Отвечая на него, заявил: «Трест» — это измена Советской власти, которая поднялась так высоко, что вы не можете себе этого представить». Фраза эта звучала несколько загадочно, но, несмотря на это Якушев комментировать ее не стал».
«Вопрос: Назовите членов контрреволюционной организации «Трест», с которыми вы встречались в Ленинграде и Киеве?
Ответ: Киев я посетил в сопровождении «Антона Антоновича» и встреч с какими-либо другими участниками контрреволюционной организации «Трест» там не произошло.
В Ленинград я выезжал самостоятельно, причем в ранее обусловленное время, меня встретил на вокзале неизвестный, который сопровождал меня по Ленинграду и познакомил во время обеда в одном из ресторанов на Садовой улице с целым рядом лиц, принадлежавших к контрреволюционной организации. Во время разговора с этими лицами соблюдал строгую конспирацию, а поэтому никаких данных о них я сообщить не могу.
В Ленинграде я пробыл несколько дней, и за это время у меня состоялась только одна встреча с участниками организации «Трест», о которых я показал выше. Во время обеда в ресторане мы обсуждали те же вопросы, какие служили темой при свидании с Якушевым.
Вопрос: На этом и закончилась ваша миссия по проверке деятельности контрреволюционной организации?
Ответ: Да, если не считать моих бесед с женой Шульца — Марией Владиславовной, у которых я жил в Москве на даче».
«Вопрос: Кутепов продолжал свою связь с Якушевым?
Ответ: Да.
Вопрос: Как долго?
Ответ: До апреля 1927 года, когда совершенно неожиданно для меня и для Кутепова возникла скандальная история.
Вопрос: Какая именно?
Ответ: В конце апреля 1927 г. Кутепов пригласил меня к себе на квартиру и сообщил, что организация «Трест», с которой мы были связаны, является ничем иным, как отделением ГПУ. Несколько времени тому назад он получил одновременно две телеграммы: одну — от Марии Владиславовны из Гельсингфорса, а вторую — от ее мужа из Вильно. Оба сообщали, что они бежали из Советской России, потому что убедились в том, что из себя представляет «Трест». Ввиду важности этого дела, Кутепов немедленно выехал в Финляндию, где имел свидание с Марией Владиславовной. Она сообщила Кутепову, что бежала из Советской России совместно с Оперпутом, который и «открыл ей глаза» на «Трест», объявив, что начиная от Якушева, все члены организации, кроме Марии Владиславовны и ее мужа, были агентами ГПУ. Финские власти, оставив Марию Владиславовну на свободе, заключили Оперпута в крепость.
Кутепов, якобы, добился разрешения повидаться с ним и имел беседу, после чего Оперпут вручил ему две записки, которые он за это время написал и которые Кутепов мне дал. В подтверждение своих слов Кутепов ознакомил меня с этими записками. Насколько я помню, содержание их представляло собой заявление Оперпута, что «Трест» был одной из легенд, созданной ГПУ. На основе этой легенды «Трест», якобы, имел целью работать против эмиграции и военных штабов, прилегающих к Советской России государств.
В дополнение к тому, что мне сообщил Кутепов, летом 1927 г. некий журналист Бурцев в одной из парижских газет написал статью, по содержанию аналогичную сообщению Кутепова. Это вызвало огромную сенсацию в рядах русских эмигрантов, а я со своей книгой «Три столицы», в которой «Трест» фигурировал как антисоветская организация, очутился в смешном и глупом положении. Это обстоятельство надолго оторвало меня от политической деятельности.
Протокол записан с моих слов правильно и мною прочитан.
Шульгин.
Допросил:
Зам [еститель] Начальника 4 отдела Управления Контрразведки «Смерш» 3 Упр [авления] подполковник Кин. (ЦА ФСБ РФ, д. N Р-48956, л. 19 — 65. Подлинник. Машинопись. Автограф).
Итак, как мы видим из протокола допроса, в послереволюционном Киеве большевистское руководство всячески оберегало и чуть ли не на руках носило патентованного монархиста и известного черносотенца В.В.Шульгина… Несмотря на его известную всем юдофобию, позднее отчетливо артикулированную им самим в изданной за рубежом в 1929 году документально-художественном произведении «Что нам в них не нравится…» в очень емкой фразе «Я — антисемит. Имею мужество об этом объявить всенародно. Впрочем для меня лично во всяком случае никакого нет тут мужества, ибо сто тысяч раз в течение двадцатипятилетнего своего политического действования о сем я заявлял, когда надо и не надо». Да, на момент его задержания киевскими чекистами (январь 1918 г.) знаменитое ленинское «Постановление Совета народных комиссаров о борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами» (РГАСПИ, Ф.2.Оп.1.Д.6727.Л.1—2) еще не было принято, но дух его уже ощутимо витал в воздухе.
Так откуда же у Георгия (Юрия) Леонидовича Пятакова — будущего лидера украинских коммунистов, основателя первого рабоче-крестьянского правительства в Украине и, кстати, будущего руководителя советской военной разведки (Региструпра РВСР), выдающуюся роль которого позднее отмечал сам Ленин в своем знаменитом «Письме к съезду», вдруг проявилось столь снисходительное отношение к «явной монархической контре» в лице бывшего думского говоруна? Чрезвычайно милосердным, что ли, был сей близкий соратник Ленина). Скорее наоборот: в 1920 году он возглавил (вместе с Белой Куном и Землячкой) т. н. Чрезвычайную тройку по Крыму, результаты репрессивной деятельности которой сегодня широко известны.
Вот что писал наркому по делам национальностей И.В.Сталину бывший член коллегии Наркомнаца Султан-Галиев в апреле 1921 года; «По отзывам самих крымских работников, число расстрелянных врангелевских офицеров достигает во всем Крыму от 20 до 25 тысяч… Народная молва превозносит эту цифру для всего Крыма до 70 тысяч. Действительно ли это так, проверить мне не удалось. Самое скверное, что было в этом терроре, так это то, что среди расстрелянных попадало очень много рабочих элементов и лиц, отставших от Врангеля с искренним и твердым решением честно служить Советской власти. Особенно большую неразборчивость в этом отношении проявили чрезвычайные органы на местах».
По-видимому, разгадку необычного феномена столь благожелательного отношения советских властей и к личности самого В.В.Шульгина, и к обобщенной оценки его практической деятельности в сфере политики, литературы и публицистики стоит все же попытаться поискать в достаточно невнятной истории с послевоенной публикацией в СССР его главного литературного произведения — книги «Годы. Воспоминания члена Государственной Думы». Вот что писал 19 мая 1966 года, в день советской пионерии, сам автор в предисловии к своей книге.
«За долгую мою жизнь барьеров было много Сейчас я беру барьер, может быть, последний, и он не из легких. Это барьер — книга «Годы», которую я закончил и надеюсь увидеть напечатанной. Она будет четвертой моей книгой, изданной в Советском Союзе. Первые книги «Дни и «1920 год» вышли в 1927 году в издательстве «Прибой». Затем, после тридцатичетырехлетнего перерыва, в 1961 году, вышла мои «Письма к русским эмигрантам». И, наконец, сейчас — «Годы». Еще одно мое общение с читателем, вернее — со зрителем, было в 1965 году в картине «Перед судом истории». В книге «Дни» я говорил главным образом о событиях Февральской революции. В книге «1920 год» — о гражданской войне. В книге «Годы» я говорю о десятилетнем периоде, когда я был членом Государственной Думы… При всем разнообразии отдельных людей и человеческих типов некоторые черты встречаются у всех народов, национальностей и рас. Например, все люди, за редким исключением, испытывают патриотические чувства. В этом их сила и слабость. Сила, потому что на почве патриотизма создаются мощные коллективы и часто рождается ослепительное вдохновение, мужество, благородство и красота самопожертвования. Слабость же патриотизма в том, что он очень легко переходит в шовинизм. Шовинизм — это чудовище с зелеными глазами. Шовинисты превращают мир в сумасшедший дом. Кончается это свирепыми войнами…
Молиться надо не только за царские «грехи, за темные деянья», но и за всех погибших в поисках правды для земли Русской. Молиться надо и за нас, сугубо грешных, бессильных, безвольных и безнадежных путаников. Не оправдаем, а лишь смягчением нашей вины может быть то обстоятельство, что мы запутались в паутине, сотканной из трагических противоречий нашего века Поэтому да судит нас Высший Судья, ибо сказано: « Мне отмщение, и Аз воздам».
Как известно из этой автобиографической книги, на третий день после начала долго ожидаемого судебного процесса В.В.Шульгин написал в своей газете «Киевлянин» передовую статью в защиту обвиняемого Бейлиса. Номер, в котором содержалась эта статья, был тот час конфискован полицией, а редактор газеты был привлечен к суду «за распространение в печати заведомо ложных сведений о высших должностных лицах…», то есть был обвинен в клевете и даже якобы провел за это деяние непродолжительное время в тюремной камере. Не знаю, правда, каким образом, ведь он был защищен иммунитетом депутата Государственной Думы, Что же он наговорил в ней крамольного? Приводу цитату из статьи в изложении самого автора.
«Как известно, обвинительный акт по делу Бейлиса есть документ, к которому приковано внимание всего мира. Со времени процесса Дрейфуса не было ни одного дела, которое бы так взволновало общественное мнение. Причина тому ясна. Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий. При таких обстоятельствах, будучи под контролем миллионов человеческих умов, русская юстиция должна была быть особенно осторожной и употребить все силы, чтобы оказаться на высоте своего положения. Киевская прокуратура, взявшая на себя задачу, которая не удавалась судам всего мира в течение веков, должна была понимать что ей необходимо создать обвинение настолько совершенное, настолько крепко кованное, чтобы о него разбилась колоссальная сила той огромной волны, что поднималась ему навстречу». С последним тезисом вряд ли можно спорить, это было очевидным. Только, спрашивается, при чем здесь дело Дрейфуса применительно к «кровавому навету против целого народа»? Во времена Дрейфуса во Франции мало кому в голову приходила шальная мысль обвинять «все еврейское население страны» в массовом шпионаже в пользу враждебной французам Германии, речь шла лишь о личностях и поступках двух офицерах французского Генерального штаба — Дрейфусе и Эстерхази.
Их текста статьи В. Шульгина. «Низкий поклон этим киевским хохлам, чьи безвестные имена опять потонут в океане народа! Им, бедным,, темным людям, пришлось своими неумелыми, но верными добру и правде руками исправлять злое дело тех, для кого суд только орудие, для кого нет доброго и злого, а есть только выгода или невыгода политическая. Им, серым гражданам Киевской земли, пришлось перед лицом всего мира спасать чистоту русского суда и честь русского имени. Спасибо им, спасибо земле, их выкормившей, спасибо старому Киеву, с высот которого свет опять засверкал на всей Русской земле!». Хорошо, сказано, пафосно, не правда ли?
Давайте, однако, не идти по привычной, хорошо укатанной «дороге с односторонним движением», который навязала обществу под влиянием Базельского конгресса тогдашняя российская и зарубежная пресса, а будем рассматривать картину во всей ее полноте. Про «киевских хохлов», оправдавших М. Бейлиса, наслышаны буквально все и притом повсюду, на любом углу. Но вот как быть с юридически закрепленным прояснением всех обстоятельств загадочной смерти несовершеннолетнего Андрея Ющинского, которое так и не состоялось до конца, кругом и рядом сплошь одни ничем не подтвержденные домыслы, умолчания и откровенная, неприкрытая ложь? Ведь вопросов, на которые предстояло ответить суду коллегии присяжных, было, как известно, всего два. Попробуйте-ка самостоятельно найти по стенограмме процесса неотреферированный кем-то ответ на первый из них — далеко не каждому это удастся. Изданная в России полная стенограмма процесса давно уже стала огромной библиографической редкостью, а на помоечных просторах интернета гуляют преимущественно лишь отдельные отрывки из речей выступавших на процессе свидетелей и экспертов.
А звучали, согласно стенографическому отчету, вопрос и ответ на него полностью так: «ПЕРВЫЙ ВОПРОСЪ. Старшина присяжных читает: «Доказано ли, что 12-го марта 1911 года в Киеве. на Лукьяновке, по Верхне-Юрковской улице, в одном из помещений кирпичнаго завода, принадлежащаго еврейской хирургической больнице и находяшагося в заведывании купца Марка Ионова Зайцева, тринадцатилетнему мальчику Андрею Ющинскому при зажатом рте были нанесены колющим орудием на теменной, затылочной, височной областях, а также на шее раны, сопровождавшияся поранением мозговой вены, артерий, леваго виска, шейных вен, давшия вследствие этого обильное кровотечение, а затем, когда у Ющинскаго вытекла кровь в количестве до 5-ти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшияся поранениями легких, печени, правой почки, сердца, в область котораго были направлены последние удары, каковыя ранения в своей совокупности числом 47, вызвав мучительныя страдания у Ющинскаго, повлекли за собой почти полное обескровливание тела и смерть его».
Ответ присяжных заседателей:
— Да, доказано».
Слово «ритуальный», как мы видим, здесь отсутствует, зато факт почти полного обескровливания тела убитого кем-то и зачем-то подростка налицо.
Так ради чего вообще писалась эта «эпохальная» книга В.В.Шульгина под названием «Годы», представлявшая собой некий актуализированный и приспособленный к требованиям текущего политического момента «римейк» его предыдущей книги «Дни»? Интересны в этой связи воспоминания академика Ю.А.Полякова о тех сложностях, которые возникли в связи с публикацией глав из этой книги, предпринятой в конце 1966 — начале 1967 гг. Автором предисловия к данной публикации был В.П.Владимиров (он же режиссер и сценарист кинофильма «Перед судом истории» (1965 г) по фамилии Вайншток). А послесловие написал историк Арон Яковлевич Аврех, ученик «лидера советской исторической науки» академика И.И.Минца и известный специалист по тематике отечественного масонства. Страсти вокруг этой публикации разыгрались очень нешуточные даже при том, что сама книга «Годы» была впоследствии выпущена с целым рядом пропусков и поправок весьма ограниченным, фактически закрытым, подписным тиражом в издательстве АПН в 1979 году с очевидным прицелом на зарубежную читательскую аудиторию. У меня именно это издание в библиотеке имеется, так что могу судить о нем вполне предметно.
Здесь, воленс-ноленс, придется обратиться к очень специфичной материи под названием «руматология». Руматология — это прикладная наука (точнее — научная дисциплина), специализирующаяся на фабрикации и распространении слухов. Классические примеры можно почерпнуть у американского писателя О’Генри в серии новелл о похождениях благородных жуликов Джеффа Питерса и Энди Таккера, в многочисленных байках о захватывающих повествованиях небезызвестного «любимца Андропова» журналиста Виктор Луи, равно как и у знаменитого строителя финансовых пирамид Сергея Мавроди.
Слухи — это особо тонкий инструмент пропаганды (равно как и рекламы), особенно «политико-эзотерической». Известный анекдот «Вы слышали новость? Рабинович выиграл „Волгу“ по лотерейному билету!», целенаправленный слив инсайда в ключевой момент, запуск легенд о «чудесах» Вольфа Мессинга — все это инструментарий слухов, богатый арсенал данного метода. Слух — это, по классическому определению, информационно-эмоционально значимое сообщение, внешне выглядящее как объективистское, совершенно нейтральное и вроде бы безадресное. На деле же, как утверждал Джеймс Хэдли Чейз, «все имеет свою цену», в том числе и правда, и ложь… Это целиком и полностью с теорией, которую активно развивал в довоенные годы упомянутый нами русско-французский ученый Койрэ. Посмотрим это на примере одного примечательного происшествия из очень богатой на различные авантюрные приключения жизни видного русского монархиста, принимавшего отречение Николая II.
Центральное место в упомянутой книге Шульгина занимает часть третья под названием «Бейлисиада», а если быть совсем уж точным — та ее часть, которая озаглавлена «Патриарх». Ниже я воспроизведу ключевой эпизод из главы седьмой книги. События разворачиваются в австрийском местечке Броды, на самой границе Австро-Венгрии с Россией буквально в первые же дни после начала Первой мировой войны. Это был бывший свободный торговый город, один из центров галицийского еврейства (более 80 процентов жителей городка), де-факто его столица. Одновременно Броды были одним из крупнейших узлов приграничной контрабанды в Российской империи и основной сборный пункт переселенцев из России для последующей эмиграции в США в конце XX века.
Бродские евреи сформировали, кстати, значительную часть еврейской общины Одессы, ведь недаром самая известная хоральная синагога в этом городе носит название Бродской. В Киеве хоральная синагога на улице Шота Руставели, построенная в 1897—1898 гг. на деньги Лазаря Израилевича Бродского к его пятидесятилетию, также называется «Бродской». А вот культового заведения в СССР, хотя бы той же часовенки, в честь невинно убиенного отрока, мученика Андрея, мечтавшего стать священником и учившегося ради этого в Киево-Софиевском духовном училище при храме Святой Софии, я что-то не припоминаю… Не стоит забывать, что даже если еврей Мендель Бейлис и не был виновен в его смерти, то этим злодеем и главным убийцей, по версии его защитников из полицейско-жандармской среды, был другой еврей — киевский вор в законе Борис Андроникович Рудзинский по кличке «Министр-голова». И кто может сегодня с уверенностью поручиться, что этот матерый уголовник, дальнейшая судьба которого полностью покрыта мраком, не был, помимо прочего, членом какой-либо изуверской сект? И что все его действия в этой загадочной истории не диктовались именно этим обстоятельством?
Вот обещанный эпизод из книги Шульгина. «Глубокой ночью они привели меня в какую-то гостиницу. Она сейчас же загорелась свечами: электричество не работало. Волшебно быстро на столе появился «самоварчик», неизменный утешитель тех времен. Стало уютно, но странно: от свечей отвыкли. Я пил чай один, мои покровители исчезли. Было, вероятно, три или четыре утра, в окна заглядывала ночь — черная, как могила. Дождь стучал тихонько в стекла…
Вдруг открылась дверь… Свечей было достаточно. Вошел старик с белой бородой. Он подошел к столу и, облокотившись на спинку кресла, крытого красным бархатом, смотрел на меня. Он был необычайно красив — красотой патриарха. К белизне волос, бороды подходили в библейском контрасте черные глаза в рамке черных же длинных ресниц. Эти глаза не то что горели — сияли. Он смотрел на меня, я на него… Наконец он сказал:
— Так это вы…
Это не был вопрос. И поэтому я ответил, указывая на кресло:
— Садитесь…
Но он не сел. Заговорил так:
— И они, эти сволочи, так они смели сказать, что вы взяли наши деньги?..
Я улыбнулся и спросил:
— Чаю хотите?
Он на это не ответил, а продолжал:
— Так мы-то знаем, где наши деньги!
Сияющие глаза сверкнули как бы угрозой. Но то, что он сказал дальше, не было угрозой.
— Я хочу, чтобы вы знали…
Есть у нас, евреев, такой, как у вас, митрополит. Нет, больше! Он на целый свет. Так он приказал…
Остановился на минутку и сказал:
— Так он приказал… Назначил день и час… По всему свету! И по всему свету, где только есть евреи, что веруют в бога, в этот день и час они молились за вас!
Я почувствовал волнение. Меня это тронуло. В этом было нечто величественное. Я как-то почувствовал на себе это вселенское моление людей, которых я не знал, но они обо мне узнали и устремили на меня свою духовную силу.
Патриарх добавил:
— Такую молитву бог слышит!
Я помню до сих пор изгиб голоса, с каким он это произнес, и выражение глаз. Вокруг ресниц они были как бы подведены синим карандашом. Они как бы были опалены духовными лучами…
Через некоторое время он сказал:
— Я пришел сюда, чтобы вам это сказать. Прощайте!..».
Очень впечатляюще! Только почему-то В.В.Шульгин рассказал об этом многозначительном и политически далеко неоднозначном эпизоде лишь в 70-е годы, незадолго до публикаций в СССР ныне почти полностью забытой книги Ю.С.Иванова «Осторожно, сионизм» (1969—1970) и скандальной статьи высокопоставленного цековского агитпроповца А.Н.Яковлева в «Литературной газете» под названием «Против антиисторизма» (1972) … Иными словами — во времена послевоенного победоносного Советского Союза, разгромившего фашизм, но отнюдь не в момент существования на белом свете «погромной, черносотенной царской России», еще не оправившейся от мирового позора после провала инспирированного правящим режимом «дела Бейлиса»…
На конференции американских раввинов в 1914 году было принято решение выразить признательность В.В.Шульгину. В резолюции конференции говорилось: «Наша благодарность Василию Шульгину должна быть внесена в книгу протоколов. Шульгин, член реакционной антисемитской партии и редактор ее главного органа „Киевлянин“, доказал, что Бейлис явился жертвой абсурдного и зловещего заговора. Он был вынужден заплатить за свою честность трехмесячным тюремным сроком. Поскольку он реакционер, его показание — самое ценное из всех… Он — Харбона на киевском Пуриме, чье имя будет помянуто добром». Харбона — это библейский ветхозаветный персонаж, один из семи евнухов- царедворцев персидского царя Артаксеркса. Благодаря своему посту он спас кузена Эсфири (Гадассы, Иштары, Эстер), царского привратника Мардохея (Мордехая) от публичной казни, подготовленной его лютым врагом и соперником Аманом — главным героем известного еврейского праздника Пурим и первым историческим символом т.н.«животного антисемитизма».
«Харбона» — в переводе с персидского обозначает «ослиный», и поэтому в результате мировая кухня получила знаменитые гоменташи — стилизованные ослиные «уши Амана». Думаете, мудрый Остап Бендер случайно пообещал в «Двенадцати стульях» выдать беспризорнику «от мертвого осла уши» в качестве награды за его очевидную дефективность? Вот недоразвитый интриган Аман вместе с 70-тысячами своих сторонников и получил из рук ветхозаветных евреев эти самые уши Харбона…
Интересно, кстати, и кто же был тот самый «патриарх», выдавший своеобразную фетву на всемирную молитву во здравие В. Шульгина — патентованного, сертифицированного «черносотенца и идейного антисемита», будущего автора звонкого лозунга «Фашисты всех стран, соединяйтесь!»? Не менее известного в богобоязненной дореволюционной России, чем А.И.Дубровин, В.М.Пуришкевич или даже сам Н.Е.Марков-Второй? Ясно лишь одно — им мог быть лишь один из лидеров тогдашнего мирового хасидизма, возможно 5-й любавичский ребе из династии Шнеерсонов — Шолом Дов Бер (Рашаб), переехавший в 1916 году из-за немецкого наступления с западной окраины страны в Ростов-на-Дону, где он в 1920 году и умер и был похоронен на местном еврейском кладбище.
Характерно, что книга «Годы» впервые увидела свет в 1979 году, лишь через три года после смерти ее автора. Причем она была издана в известном своей пропагандистской и спецслужбистской направленностью издательстве «Агентство печати «Новости» (АПН). Причем с предисловием Владимирова Владимирова (Вайнштока) и с выражением Шульгиным своей признательности ему же «за участие в создании этого произведения». На деле, если верить многочисленной мемуарной литературе, истинным соавтором последней книги Шульгина был Иван Алексеевич Корнеев — историк-музыковед, его сокамерник по тюремному Владимирскому централу. Который не только на протяжении почти двух лет трудолюбиво записывал воспоминания Шульгина, но впоследствии сумел полностью воспроизвести их по памяти после своего освобождения, ибо черновые записи были у него изъяты администрацией тюрьмы, Да к тому же он еще и перелопатил стенографические отчеты Госдумы за десять лет (с 1907 по 1917 гг.), обработал также кучу дополнительных материалов. Но благодарных слов от автора книги, в отличие от В. Владимирова, он так и не дождался. Между прочим, Владимир Вайншток к тому времени уже был сценаристом и соавтором одного из самых известных советских фильмов о разведчиках-нелегалах — «Мертвого сезона» режиссера Саввы Кулиша…
Возвратимся к началу этой главы, точнее — к ее авторскому предисловию. Что там столь впечатляющее пророчествовал знаменитый немецкий философ О. Шпенглер о всемогущей «цензуре молчания» и о неизбежной «кончине демократии»? Убежденный идейный монархист В.В.Шульгин к концу ХХ века стал, как сейчас модно говорить, «распиаренной политической фигурой», несмотря на его знаменитый труд 1929 года о русско-еврейском диалоге. Передо мной лежит книга Василия Шульгина, изданная в 2005 году издательствами «Яуза» и «Эксмо», вот она.
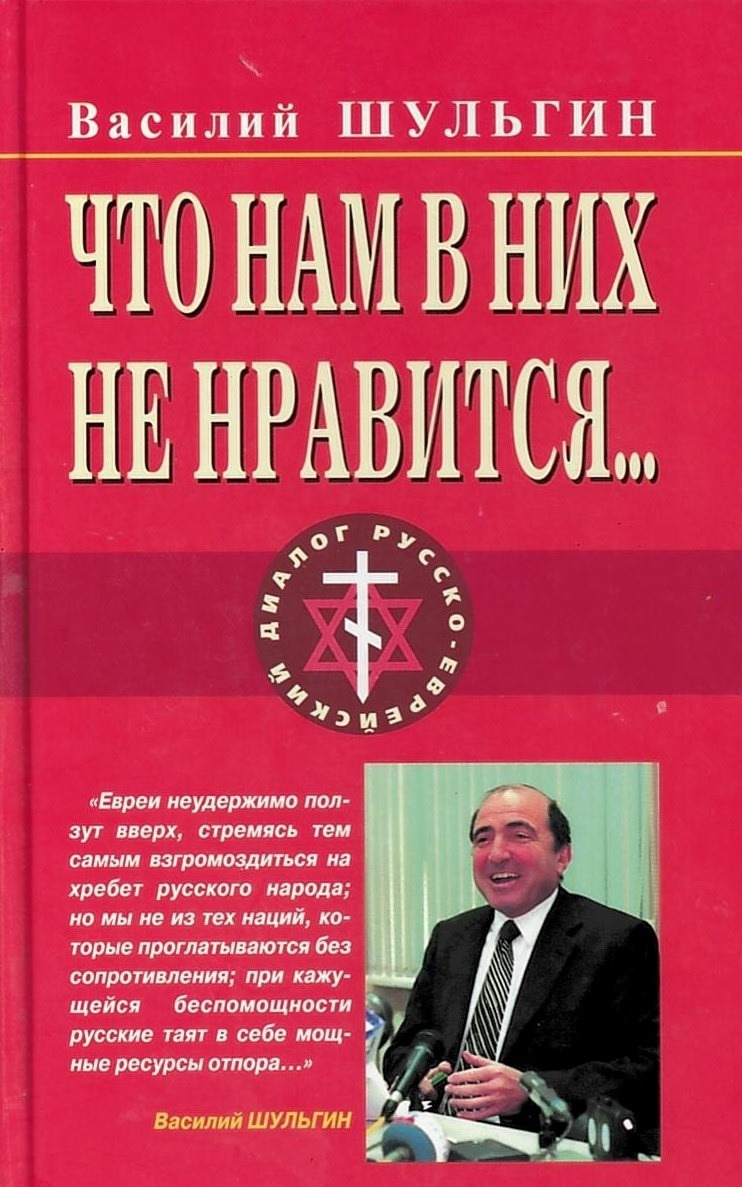
И сзади, и спереди на обложке книги красуется вечно улыбчивый, весьма довольный собою и достигнутыми в своей жизни результатами известный российский олигарх, член-корреспондент Российской академии наук и автор открытого письма российским властям под названием «Россия на перепутье. Обращение к обществу» Борис Абрамович Березовский. Он же бывший заместитель секретаря Совета безопасности РФ, бывший исполнительный секретарь СНГ. бывший депутат Государственной думы от Карачаево-Черкессии, российский медиамагнат и фактический распорядитель общероссийским телеканалом ОРТ, а ныне политический эмигрант в Великобритании по фамилии «Платон Еленин». Это, по всей видимости, о нем и ему подобным пророчески писал Василий Шульгин, коль скоро эта цитата красуется на обложке рядом с фотографией Березовского: «Евреи неудержимо ползут вверх, стремясь тем самым взгромоздиться на хребет русского народа; но мы не из тех наций, которые проглатываются без сопротивления; при кажущейся беспомощности русские таят в себе мощные ресурсы отпора…».
Меня эта книга заинтересовала вовсе не пространными размышлениями В. Шульгина о природе и причинах возникновения антисемитизма, не его попытками «строго научно» разделить антисемитизм на расовый, политический и трансцедентальный, а тем, что он вновь и вновь обращается к тематике «бейлисиады» под углом зрения «кровавого навета». И в качестве иллюстрации своей исторической правоты снова приводит сцену своего ночного рандеву с еврейским «патриархом» в австрийском местечке Броды. Трактуется все это им следующим образом: да, я ярый и убежденный антисемит, но в решающую минуту «дела Бейлиса» встал на сторону добра и справедливости, и весь еврейский народ оценил это по достоинству устами своего духовного вождя!
Мне подобная трактовка событий представляется абсолютно вымышленной и явно подогнанной под требования текущего политического момента середины 60-х годов. Мой выдающийся земляк, русский писатель и мыслитель Владимир Галактионович Короленко в «деле Бейлиса» сыграл роль неизмеримо большую, чем В.В.Шульгин. Он не просто написал, как депутат Шульгин в своей собственной газете «Киевлянин» статью с критическим разбором действий местной прокуратуры и полиции и критикой содержания созданного ими обвинительного заключения. Он еще в ноябре 1911 года опубликовал в газете «Речь» целое воззвание «К русскому обществу. По поводу кровавого навета на евреев», под которым подписались более двухсот авторитетов тогдашней России, и подготовил свыше десятка статей по мере продвижения к суду «дела Бейлиса». Однако благодарности от еврейского сообщества он, увы, не дождался. Более того — тот же В.В.Шульгин публично обозвал его «писателем-убийцей» из-за позиции Короленко в оценке т.н. сорочинского бунта на Полтавщине.
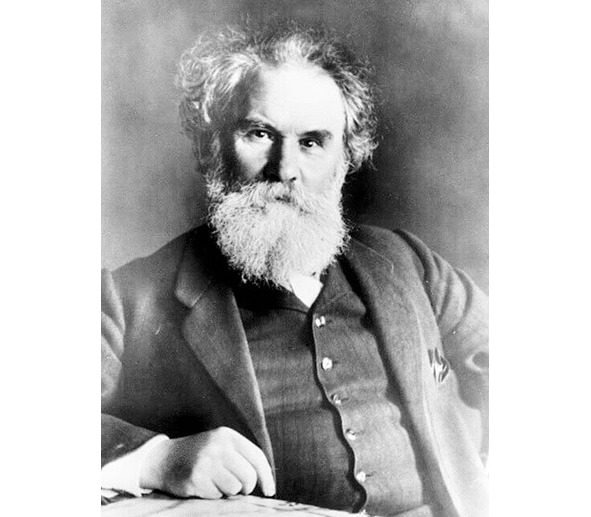
Согласно стенограмме заседания Государственной думы от 12 марта 1907 года депутат Шульгин выразил пожелание, чтобы казням подвергались «не те несчастные сумаcшедшие маниаки, которых посылают на убийство другие лица, а те, что их послали, интеллектуальные убийцы, подстрекатели, умственные силы революции, которые пишут и говорят переда нами открыто… Если будут попадать такие люди, как известные у нас писатели-убийцы… Голос: Крушеван? Деп. Шульгин. Нет, не Крушеван, а гуманный и действительно талантливый писатель В. Короленко, убийца Филонова!». Здесь налицо факт публичной лжи и клеветы со стороны Шульгина. Короленко действительно выступил в январе 1906 года с публичной критикой жестокостей и издевательств, допущенных по отношению к повстанцам из местечка Сорочинцы Миргородского уезда (того самого села, где еще до недавнего времени ежегодно проходила всемирно знаменитая Сорочинская ярмарка) карательной экспедицией во главе со статским советником Ф.В.Филоновым. Через неделю после публикации «Открытого письма Короленко» в газете «Полтавщина» Филонов был убит членом боевой организации партии эсеров Д.Л.Кирилловым, который благополучно скрылся за границу, а писателя лживо и бездоказательно обвинили в подстрекательстве к совершению этого убийства.
Так почему же идейного антисемита Шульгина российское еврейское сообщество превозносило, а наднационального вечного гуманиста Короленко предпочитало не замечать, воспринимая его стойкую гражданскую позицию правозащитника как должное? И это при том, что депутат Шульгин от царизма пострадал условным сроком трехмесячного тюремного заключения и царским милостивым прощением его мелких клеветнических грешков, а народник-гуманист Короленко успел побывать с 1981 по 1985 гг. в двух долговременных ссылках в «местах, не столь отдаленных» — в Сибири и в Якутии.
Вот что вполне обоснованно написал в апреле 2012 года о В.Г.Короленко и его выдающейся роли в «деле Бейлиса» известный отечественный литературный критик, журналист и беллетрист (недавно внесенный Минюстом РФ в список иностранных агентов) Дмитрий Быков: «Без участия Короленко истина не только не пробила бы путь, она элементарно не была бы установлена. Сыщиком, русским Холмсом облазил он киевскую Лукьяновку, адский полубандитский район; с соседскими детьми обошел и осмотрел весь кирпичный завод Зайцева, внимательнейшим образом опросил свидетелей, набрал добровольных помощников, координировал все дополнительное расследование!». И то, что для российской еврейской общины В.Г.Короленко был не только высоким моральным авторитетом, но и реальным подспорьем в решении важных проблем свидетельствует следующее рекомендательное письма В.Г.Короленко А. М. Горькому, датированное 19 мая 1920 года.
«Дорогой Алексей Максимович! Податель сего письма, Залман Мендель Шнеерсон, есть то самое лицо, на которое часто ссылались фальсификаторы в деле Бейлиса, как на основную пружину ритуального убийства. Человек, по-видимому, интересный, как все крепко убежденные в чем-нибудь люди. Он, по-видимому, довольно образован, и это не мешает ему, однако, крепко держаться старого завета и даже хасидизма. Он явился ко мне с просьбой дать письмо к Вам, так как он думает, что Вы можете помочь ему. Дело его состоит в том, что в городе или местечке Любавичи существует евр [ейская] школа на основах, как он выражается, богоискательства (очевидно, по старому завету). Она существует уже 30 лет и, очевидно, имеет какие-то корни в бытовой и умственной жизни еврейства. Большевики распорядились с нею так, как вообще распоряжаются со многими сложными явлениями: они решили изгнать ее, а здание отдать молодым скаутам. Вот он и едет, чтобы по возможности отстоять это детище еврейского быта и своеобразной еврейской религиозной мысли. Я мало знаю особенности этой школы. Себя не могу считать человеком далеко религиозным, но у меня навсегда осталось религиозное отношение к свободе чужого убеждения и чужой веры, которое возмущается слишком простым решением таких вопросов посредством простого насилия.
Если и Вы думаете также, то, быть может, не откажетесь выслушать и оказать возможное содействие Залману Менделю Шнеерсону, — содействие к тому, чтобы голос из Любавича был выслушан и мог изложить все, что можно сказать в пользу данной школы. Крепко жму Вашу руку н желаю Вам всего хорошего. Вл. Короленко. Полтава, Мало-Садовая №1».
Очень показательное и очень многозначительное послание, особенно для тех крайне суровых, более того — жестоких времен данного периода гражданской войны на территории Украины! Суля по всему, в письме Короленко шла речь о Шнеуре Залмане Шнеерсоне, секретаре 6-го Любавичского ребе, его представителе в Москве и в последующем — посланнике Ребе в Палестине. Он был двоюродным братом самого знаменитого проповедника Хабада, Любавичского Ребе Менахема Менделя Шнеерсона. Известно также, в частности, что вплоть до своего отъезда из СССР он имел самое непосредственное отношение к судьбе т.н. библиотеки Шнеерсона, о которой я подробно писал в книге «Зарубки на гриппозной сопатке».
Хотите, напомню вам, каким был май 1920 года в Украине? Напомню словами очень известной до сих пор в народе советской политической песни: «Помнят псы-атаманы, помнят польские паны конармейские наши клинки!». Юзеф Пилсудский только-только заключил Варшавский военно-политический договор с Симоном Петлюрой. По этому соглашению Галиция, Волынь и Холмщина полностью отходили к только что образованной Второй Речи Посполитой. Вместе с упоминавшимся мною ранее бывшим австрийским местечком Броды (это был сожженный вначале в 1914 году в ходе Первой мировой войны и вторично во время Гражданской войны т.н. «Галицкий Иерусалим» с его 88%-м еврейским населением во главе с местным «патриархом»), под которым чуть позднее развернулось решающее сражение между Первой конной армией С.М.Буденного и польскими войсками. Равно как и с родовым поместьем Курганы в Острожском уезде самого В.В.Шульгина. Неоконченный роман Николая Островского «Рожденные бурей» не припоминаете в этой связи? Его действие разворачивается как раз там, в районе родового поместья графов Могельницких, которых Шульгин упоминает в повести «Дни» в период подготовки выборов во вторую Государственную Думу.
6 мая отряд польской разведки в Пуще-Водице под Киевом захватил рейсовый трамвай и триумфально проехался на нем аж до центра столицы Украины. И уже 7 мая 1920 года войска Красной Армии без боя сдали Киев наступавшим польско-украинским частям. Военно-политические соглашения были также достигнуты Польшей с правительством Вооруженный сил Юга России во главе с бароном Врангелем и с Финляндией, в связи с чем РСФСР была вынуждена в срочном порядке форсировать подготовку к заключению в июне 1920 г. будущего Тартуского перемирия с участием Паасикиви-Берзина-Керженцева. Две галицийские бригады из состава дивизии ЗУНР (Западно-украинской Народной Республики), воевавшие в составе Красной Армии, перешли тогда на сторону С. Петлюры, в тылах красных резко активизировались воинские формирования генерал-хорунжего Ю. Тютюнника. Батька Нестор Махно, наиболее ненавистная Льву Троцкому политическая фигура на Украине, вновь вознесся на вершину своей популярности и своего политического веса и победоносно совершал знаменитый рейд Революционной повстанческой армии Украины на территориях Харьковской и Полтавской губерний. Более того, он формирует, наконец-то, на Екатеринославщине свой Вольный Совет крестьянских или рабочих делегатов во главе с самим Махно, а также Виктором Белашом, Александром Калашниковым, Семеном Каретником и Василием Куриенко. На Дальнем Востоке тогда же провозглашается независимая Дальневосточная Республика (ДНР). На Кавказе в преддверии открытия практически неизвестного нашим историка Бакинского конгресса народов Востока с участием турецкого героя Энвер-паши вообще творится что-то невообразимое…
Так что Залман Мендель Шнеерсон выбрал «весьма подходящий» момент для обращения за посредничеством именно к уроженцу Житомира В. Г. Короленко, которого тогда уже вовсю и со всех сторон гнобили и поносили полтавские чекисты во главе с Председателями губернской ЧК Баскаковым Яковом Моисеевичем, Ивановым Василием Ивановичем и Магоном Генрихом Яновичем. В кадрах которой тогда числились очень знаменитые из целого ряд литературных произведений, в том числе Михаила Булгакова, лица вроде весьма загадочной по своей настоящей биографии садистки-следователя Розы Шварц и не менее колоритного палача и садиста по прозвищу «Гришка-проститутка». В материалах деникинской «комиссии Рерберга», исследовавшей случаи т.н. административных расстрелов в рамках осуществлявшейся политики «красного террора» на Украине, их фамилии по Полтаве и Полтавской губернии упоминались чаще других. Короленко лично знал эту «чекистку Розу» (которую сегодня в публицистике почему-то причисляют к деятельности Киевской ЧК вместе с бывшей проституткой «Товарищем Дорой» — то ли Любарской по фамилии, то ли Евлинской), и он довольно подробно описал ее. По его словам, «кровавая Роза» была вовсе не проституткой, а бывшей швеей. «Это была молодая девушка, еврейка. Широкое лицо, вьющиеся черные волосы, недурна собой, только не совсем приятное выражение губ. дурна собой, только не совсем приятное выражение губ. А поясе у нее револьвер в кобуре».
Не менее «теплые» чувства питали к писателю и руководители Полтавского губревкома Яков Наумович Дробнис и Александр Яковлевич Шумский. В Полтавской губернии постоянно объявлялось то чрезвычайное, то осадное, то военное положение, ширилась практика массовых расстрелов, которая, в отличие от РСФСР, была продолжена решением руководства Всеукрревкома за подписями Петровского, Затонского, Гринько, Кокарского, Ермощенко и Мазура. Была объявлена всеобщая мобилизация всех родившихся в 1896—1900 гг. по г. Полтаве и Полтавскому уезду, шли повальные обыски по ночам, изымались не только все ценные вещи, но и «сверхнормативные» предметы одежды, обуви, белья, посуды, продовольствия, мыла, спичек, папирос и пр. Обязательной «регистрации» почему-то подлежали все музыкальные инструменты, ноты (?), а также аптекарские весы (?) — вот каким было это время.
Из дневника А.А.Несвицкого известно, к примеру, об устном обращении Шумского к Короленко, переданному писателю через какого-то посредника, примерно такого содержания: «Ввиду того, что образ действий советской власти волнует его (т. е. Короленко — авт.) и вредно отражается на его здоровье, он, Шумский, посоветовал ему оставить город Полтаву. На что Короленко ответил, что он умрет в Полтаве и пока есть у него силы, он будет ходатайствовать о заключенных. Речь, вне сомнения шла о жалобе Короленко наркому Луначарскому в связи с нашумевшим делом двух спекулянтов зерном и мукой — Герша Янкелевича Аронова и Самуила Мееровича Миркина., которых все же расстреляли, несмотря на прямое указание Ф.Э.Дзержинского из Москвы.
Еще в 1919 году В.Г.Короленко писал в своем дневнике: «Среди большевиков много евреев и евреек. И черта их — крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает». Это, конечно, мимо глаз и ушей представителей местных властей не проходило. Сам вождь мирового пролетариата крыл его тогда самыми последними словами как «жалкого мещанина, плененного буржуазными предрассудками», представителя кучки «интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг а г…о».
В студенческие годы я был в приятельских отношениях с другим выпускником средней школы №3 г. Полтава имени А.В.Луначарского, сыном директора Литературно-мемориального музея В.Г.Короленко, фамилию его, признаюсь, позабыл. Его семья проживала в одном из зданий музейной усадьбы, и в ходе целого ряда вечерних дружеских посиделок «за рюмкой чая» я узнал много ранее мне неизвестного об очень непростых отношениях писателя с другим нашим земляком, занимавшим тогда пост наркома просвещения РСФСР — А.В.Луначарским. Луначарский много чего наобещал Короленко, но мало реального сделал тогда на деле этот «плачущий большевик» для великого русского мыслителя, писателя, академика, с которым он был очень тесно знаком еще с царских времен…
Буквально накануне решающих февральских событий 1917 года В.Г.Короленко опубликовал в газете «Русские ведомости» пророческую статью о скором крахе тогдашнего российского консерватизма под названием «Новейшая русская история по В.В.Шульгину». В ней он, в частности, пишет следующее: «Г. Шульгин признает факт, впрочем, совершенно очевидный; прежде он воевал с теми самыми людьми, с коими ныне состоит в союзе. В недавнем «диспуте» между исторической властью и обществом он отстаивал проявления того исторического явления, которое ныне признает негодным. Но он объясняет это тем, что и его бывшие противниками, которых он называет общим именем «либералы», теперь не те, что были. По его словам, они показали себя тогда с самой ужасной стороны: «Эти люди, ежедневно выносившие протесты против смертной казни, тут же расстреливали городовых на каждом перекрестке»,» пламенные обличители еврейских погромов с увлечением уничтожали русские помещичьи усадьбы, называя это занятие «иллюминацией»… Шульгин с болью и возмущением говорил туда же в Думе, что писатель, всю жизнь проповедовавшие гуманные идеи, до такой степени увлекся политической борьбой, что своими статьями (?) подстрекал банду политических убийц, терроризировавших страну. Из песни слова не выкинешь. Нет, эту песню г. Шульгину положительно следовало бы выкинуть из своего послереволюционного репертуара, потому что это — песня заведомо фальшивая и клеветническая. При несколько большей заботе о добросовестности, г. Шульгин должен был знать это… Ему, вероятно, будут аплодировать недавние союзники, а те, кто умеет читать более добросовестно и вдумчиво, будут на моей стороне. Каждому свое. Общего языка тут нет».
Да, Короленко как в воду глядел! «Suum cuique» (каждому свое) — вот и получай, что заслужил. Царя-батюшку и всех его родственников новые «союзнички» В.В.Шульгина из числа местной и зарубежной масонской креатуры уже вскорости на тот свет благополучно спровадят не без его активного участия в политическом спектакле под названием «отречение Николая II». Все основные участники «дела Бейлиса» (кроме него самого) стараниями Киевской ЧК дружно последуют на тот свет. А ложь, у которой, как образно говорится в народном фольклоре, «короткие ноги», несмотря ни на что, будет жить вечно. По крайней мере до тех пор, пока на белом свете будут существовать структуры, которые заинтересованы в этом инструменте для достижения нужных им целей и получения нужных результатов.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Кто ковал славу советским органам безопасности?
Есть целый ряд закрытых научных исследований по тематике анализа этнического (или национального, как вам будет удобнее) состава бывшей, то есть ныне уже недействующей, агентуры органов безопасности СССР. Следует отчетливо сознавать и всегда помнить, что между агентурным аппаратом КГБ СССР (или КГБ при СМ СССР) и органов НКВД или МГБ СССР, не говоря уже о ЧК-ГПУ-ОГПУ, пролегает дистанция огромного размера. Ибо задачи, поставленные в различные периоды перед органами безопасности СССР политическим руководством страны, заметно различались и по своему целеполаганию, и по степени их приоритетности. Однако ряд общих черт, присущих в целом общей массе советской агентуры (как внутренней, так и зарубежной) все же прослеживались достаточно отчетливо. С реферативными изложениями основного содержания некоторых из этих исследований я в свое время знакомился по долгу службы, особенно когда в период т.н. перестройки перед руководством КГБ достаточно остро встал в практической плоскости очень непростой и весьма дискуссионный вопрос о пределах рассекречивания архивных оперативных дел сталинского (а если быть более точным — довоенного) периода.
Именно тогда вскрылась одна достаточно неприятная подробность по так называемому пятому пункту в среде «идейных» доносчиков («инициативников-стукачей»), особенно из числа тех из них, в действиях которых явно проглядывались корыстные, «шкурные» интересы, внешне замаскированные заботой о благе государства. Особенно отчетливо это наблюдалось на примерах Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных городов с особым режимом паспортной прописки в связи с введением в стране единой внутренней паспортной системы. Поистине святое дело: прямо в лоб, «по-пролетарски» классово наклепать на бывшего дворянина, купца, нэпмана и пр. в «соответствующие органы», чтобы затем победно въехать в освободившееся жильё!
Чтобы не быть голословным, сошлюсь на данные современной социологии относительно трех волн еврейской эмиграции из царской России и довоенного Советского Союза. Первая, как известно, — в США, Аргентину, Канаду, Палестину и др. страны (1881—1914 гг.), вторая — движение из черты оседлости в революцию (1917—1921 гг.), а с 1923 по 1932 гг. — «массовый исход» из сельской местности в города. Есть такой выдающийся советский экономист и видный исследователь проблем еврейства в СССР, с которым особо не поспоришь, по фамилии Ю.А.Ларин (Лурье), тесть Н.И.Бухарина к тому же. В 1929 году он издал очень известную, можно сказать — хрестоматийную, книгу под названием «Евреи и антисемитизм в СССР». В главе третьей под названием «Территориальная перегруппировка еврейского населения» он, в частности, написал следующие строки.
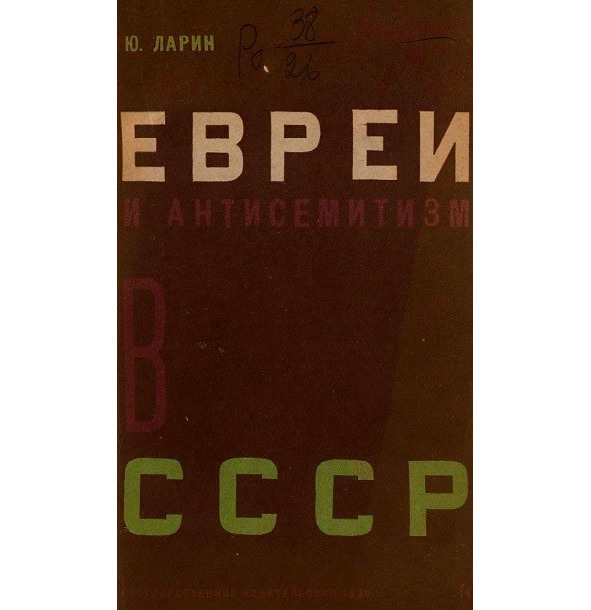
«Существенное изменение в распределении еврейского населения заключается в том, что за десятилетие советской власти еврейское население из преимущественно местечкового (и мелкогородского) превратилось в преимущественно крупногородское… В Москве при советской власти было три переписи населения. Первая перепись было в 1920 г. Тогда в Москве было всего 1270 тысяч жителей. Из них евреев было всего 28 тысяч человек, т.е. всего 2,2%. Широкое переселение началось в 1920 г., так как только к этому времени кончилась гражданская война и открылось свободное сообщение с Украиной и Белоруссией. И уже по весенней переписи 1923 г. в Москве оказывается 5,6% евреев из всех жителей Москвы. Наконец, последняя перепись была 16 декабря 1926 года… За 7 лет в Москве прибавилось примерно 700 тысяч жителей, и в том числе прибавилось 100 тысяч евреев. В одну Москву переселилось 100 тысяч человек из тех 500 тысяч евреев, которые вообще переселились из Украины и из Белоруссии в другие советские республики за время советской власти…
Это явление… есть явление совершенно естественное, неизбежное, необходимое, которое и дальше будет продолжаться… Надо прямо говорить: да, мы пускали, пускаем и будем пускать и далее евреев в Москву так же, как пускаем поляков, немцев и представителей всх других национальностей. Нужно создать в рабочей (!) среде такое настроение, что всякий, кто выступает с речами против въезда евреев в Москву — каждый такой человек, вольно или невольно, контрреволюционер».
Первая Всероссийская перепись населения 1897 года: в городской черте Москвы проживало около 1 млн. человек, из наиболее заметных этнодиаспорных групп были немцы (18 тыс. или 1,8%), поляки (9 тыс. или 0,9%) и евреи (5 тысяч или 0,5%). А вот по данным местной еврейской общины в 1871 году в Москве насчитывалось 8 тыс. евреев, в 1879 — 13 тыс., 1880 — около 16 тыс., в 1889 — примерно 26 тыс, в 1891 — уже 35 тысяч. В это время среди купцов 1-й гильдии евреи составляли пятую часть, они сыграли заметную роль в становлении и развитии банковского дела в первопрестольной. Проживали зажиточные слои преимущественно в Зарядье, в Мясницкой, Сретенской, Арбатской и Тверской частях города, а в пригородах — в Марьиной Роще, Черкизово, Всехсвятском, а также в Перово и в Малаховке.
Материалы переписи 1912 года по Москве свидетельствуют, что пришлое (некоренное) население составляло 79 процентов. Первая Всесоюзная перепись 1926 года: население города составляло чуть более 2 млн. че., в том числе евреев -131 тыс. (6,5 процента). По данным московской еврейской общины, в 1920—1941 г.. численность еврейского населения стремительно возрастала: в 1923 г. — примерно 86 тыс. человек, в 1926 — 131 тыс., 1933 — более 226 тыс., в 1939 — 250 тысяч. Селились они преимущественно в районах, где и до революции было значительное количество еврейского населения (Сретенка, Маросейка, Большая Никитская, Сокол, Марьина Роща, Черкизово), а также в новых районах Коптево, Петровско-Разумовское, Останкино. Давыдково. Но вот почему, в силу каких причин стала складываться эта весьма специфическая послереволюционная картина?
Был период, когда в верхних эшелонах руководства Комитета государственной безопасности стал пробивать дорогу тезис примерно такого содержания: «Коль скоро при Хрущеве органы госбезопасности сделали «крайними», объявили виновными во всех «политических игрищах» верхушки довоенного периода, повесили на них всю тяжесть ответственности за все реальные и мнимые «преступления сталинского режима», основательно почистив при этом значительный массив оперативной информации, давайте-ка не будем повторять прежних ошибок. Не станем идти на поводу у команды А.Н.Яковлева в разворачивании в стране очередного витка антисталинской истерии по наиболее общественно-значимым проблемам (как, например, убийство С.М.Кирова, «шахтинское дело», дело М.Н.Тухачевского и других военачальников в рамках «заговора военных», дело Н.И.Вавилова и пр.), а предоставим советскому народу, советскому обществу действительно реальную картину во всей ее полноте! Даже невзирая на очевидный негативный эффект от предстоящих публичных разоблачений бытовавших тогда в газетной и журнальной пропаганде многочисленных измышлений, корни которых очевидно растут из хрущевского прошлого». Основной довод при этом был примерно следующий: нынешний руководящий и оперативный состав органов КГБ СССР не имеет ничего общего с лицами, запятнавшими своими негативными поступками высокое звание советского чекиста, и он не может нести ответственность за действия этих лиц, совершенные в период массовых репрессий».
В.А.Крючков, который, как известно, не раз и не два в кругу своих коллег по профессии подчеркивал, что не так страшна ложь, как страшна полуправда, тоже склонялся к тому, чтобы от «дозированной гласности» и откровенной спекуляции на антисталинской риторике непрерывных «разоблачений» в прессе и электронных СМИ перейти к более сбалансированному освещению целого ряда «белых пятен» и к ликвидации «черных страниц» в отечественной истории. Предполагалось, в частности, допустить к ознакомлению с архивными материалами наиболее общественно-значимых оперативных и следственных дел органов госбезопасности не только ближайших родственников пострадавших (репрессированных), отдельных специально отобранных представителей ряда СМИ, но также и исследователей из специализированной научной среды.
Кто тогда «задробил на корню» эту полезную политическую инициативу чекистов? Вновь образованная Идеологическая комиссия ЦК КПСС, сформированная 30 сентября 1988 года на Пленуме ЦК КПСС, в которую были влиты отделы пропаганды, культуры, науки и учебных заведений ЦК. Возглавил комиссию член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС В.А.Медведев, за спиной которого всегда неизменно и отчетливо маячила тень А.Н.Яковлева. Сам Яковлев шустро перескочил от заунывной и надоедливой пропаганды в гораздо более масштабную и ответственную сферу руководства внешней политикой страны, а его вечный антагонист Лигачев был «загнан в бутылку» — назначен куратором сельского хозяйства. Про невинную жертву горбачевской перестройки А.А.Громыко я даже поминать здесь не желаю. Сам виноват, выпустив на мировую авансцену «меченого без намордника» — вот и наказал тебя за это Всевышний уже менее, чем через год. Кстати, попробуйте-ка самостоятельно поискать что-либо внятное о повседневной деятельности этой «идеологической комиссии» вплоть до августовских событий 1991 года — ногти и зубы себе обломаете в результате безуспешных стараний получить конкретные сведения о некоторых буднях нашей новейшей истории.
Из совершенно секретной записки комиссии Политбюро от 25 декабря 1988 года. На первом месте — вопрос признания антиконституционности, противоправности «троек», «двоек», особых совещаний, списков и т. п. Значительная часть приговоров по репрессивным делам была вынесена именно этими, несудебными и неконституционными органами. Я тоже был в числе тех руководителей Комитета, которые предлагали: давайте опубликуем полный списочный состав всех этих «несудебных и неконституционных органов» — и пусть люди сами разбираются, что к чему. Без ненужных подсказок сверху и достаточно ангажированных комментариев в духе «во всем виноват лично Сталин». Комиссия, кстати, именно к этому и вела дело, предложив рассмотреть вопрос «о личной ответственности Сталина и его непосредственного (?) окружения за организацию и осуществление массовых репрессий, насаждение противоправной, антиконституционной практики». (РГАНИ, Ф.107, 1 оп., 49 ед, хранения, крайние даты: 1987—1990, рассекречено частично).
В результате работы комиссии в 1988—1991 гг. было реабилитировано более 1 млн. незаконно осужденных советских граждан. При этом в ход пошли аргументы, появление которых в публичном пространстве было вовсе не случайным. Так, например, весь путь Л,М.Кагановича как политического деятеля был связан с вероломством и репрессиями. Известны тяжелые последствия его деятельности в годы коллективизации на Украине, в Воронежской области, на Северном Кавказе, в Западной Сибири. Именно Каганович в начале 30-х годов выдвинул предложение о введении чрезвычайных внесудебных органов — так называемых «троек». Однако обл всем этом — молчок.
В качестве иллюстрации приведу отрывок из материалов «Экспертного заключения по делу КПСС (1992)». «В период пребывания КПСС у власти ее руководящий аппарат в центре и на местах несколько раз развязывал кампании массовых репрессий, ответственность за проведение которых каждый раз перекладывал на полностью подконтрольные ему карательные органы. Мы полагаем, что организация и проведение таких репрессий несут в себе признаки преступлений против человечности. А когда эпоха массовых репрессий отошла в прошлое, партийный аппарат позволял себе регулярное вмешательство в отправление правосудия, зачастую с целью расправы со своими оппонентами».
Так что же не глянулось Идеологической комиссии ЦК КПСС во главе с Медведевым и созданной тогда же комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х — начала 50-х гг. во главе с Яковлевым в предложениях КГБ? Прежде всего то, что в подготовленных чуть ли не по ультимативному требованию «правозащитников эпохи перестройки и нового политического мышления» обобщенных аналитических материалах КГБ СССР стал, пусть и неявно, но все зато более и более отчетливо, проглядываться преобладающий этнический состав «гильдии стукачей ОГПУ-НКВД», особенно в Москве, Ленинграде и в других крупнейший городах Советского Союза. Когда к этому был присовокуплен процент инородцев среди действующей и архивной агентуры органов безопасности (естественно, в полностью обезличенном виде, в форме статистических данных), то общая картина характеристики главных авторов и непосредственных исполнителей «сталинских репрессий» стала настолько впечатляющей, что данный вопрос был тут же переведен Комиссией в иную плоскость. А дальнейший разговор о собирательных образах «следователей Хватов», направленных в органы госбезопасности по партийно-комсомольскому набору, вообще был свернут как «политически нежелательный» с точки зрения возможного провоцирования очередной волны «антисемитизма» в стране.
К примеру, была в истории органов следствия ОГПУ-НКВД одна экзотическая личность — сержант ГБ по фамилии Софья Оскаровна Гертнер-Иванова, следователь Ленинградского управления. Очень изобретательной была по части пыток подследственных, за что и получила от своих коллег прозвище «Сонька Золотая Ножка» (или «Костяная», кто сегодня знает об этом с уверенностью). В 1939 году по указанию Л.П.Берии ее арестовали как одиозную фигуру периода «ежовщины». И что же она поведала на допросах своим коллегам? А вот что: «Я девять лет проработала в органах НКВД и во время операций 1937—1938 годов выполняла преступные методы ведения следственных дел, которые исходили от Заковского, Шапиро и Мигберта, ныне врагов народа, на которых я не могла в то время подумать. Они вбивали мне в голову преступные методы. Я была единственной женщиной, которая работала на следствии, и дошла почти до сумасшествия, всем исходящим от руководства указаниям я верила и так же, как и все остальные работники, их выполняла, но дел, бывших у меня в производстве без материалов, я не брала. Я виновата в том, что делала натяжки в протоколах допроса обвиняемых, била их, но это все я делала без всякого умысла и к тому же с распоряжения начальства, думая, что это нужно… Теперь я потеряла все, я потеряла партию и потеряла мужа. Прошу суд учесть мою 9-летнюю работе в органах НКВД и вынести справедливый приговор…».
Упоминаемый ею Исаак Ильич Шапиро был моим отдаленным предшественником на посту начальника Секретариата НКВД СССР, старшим майором государственной безопасности. Он готовил для «доклада наверх» ежедневные сводки важнейших показаний арестованных по ГУГБ НКВД СССР (сейчас они хранятся в АП РФ, ф.3, Оп.24). Очень информативный материал, должен вам сказать! Из этих сводок сразу видно, кто из следователей-чекистов удостоился «особой чести» допрашивать наиболее важных заключенных в 1937—1938 гг.
Следует добавить к этому, что в период с марта по ноябрь 1938 года И.И.Шапиро возглавлял также т.н. 1-й Спецотдел НКВД СССР, звонко прославившийся впоследствии после отыскания в нем знаменитой «рукописной записки Шелепина» по т.н. «Катынскому делу». Именно в ней имелась ссылка на какое-то непонятное «Постановление ЦК КПСС от 5-го марта 1940 года» (а на деле — решение Политбюро ЦК ВКП (б), в котором фигурировал начальник 1-го спецотдела Л.Ф.Баштаков, внесенный в докладную записку Л.П.Берии чуть ли не лично рукой (!) И.В.Сталина). Самое интересное в этом эпизоде то, что данное решение Политбюро состоялось ровно в тот день и час (5 марта 1940 года), что и Приказ НКВД СССР №308 от 05.03.1940 о назначении Л.Ф.Баштакова начальником 1-го Спецотдела НКВД, что теоретически возможно, но на практике крайне маловероятно.
Всю подноготную истории с расследованием покойного В.И.Илюхина по материалам «Особой папки» я хорошо знаю, он и ко мне неоднократно обращался лично за советом и подсказкой. Однако у меня уже была своя собственная мотивированная позиция по данному вопросу, и я ей неизменно следовал. Как известно, В.И.Илюхин написал в мае-июне 2010 года в адрес лидера КПРФ Г.А.Зюганова два письма на сей счет, и предложил выступить с официальным заявлением ЦК (Президиума ЦК) КПРФ по фальсификации архивных исторических документов. Заявление Президиума ЦК КПРФ «С фальсификацией советской истории необходимо покончить!» от октября 2010 года — это, по сути, всего лишь обращение в адрес созданной в мае 2009 года при Президенте РФ «Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» с С.Е.Нарышкиным в качестве ее председателя. Оставляю за скобками тот совершенно очевидный для меня факт, что В.И.Илюхин, как председатель Комитета Государственной Думы фС РФ по безопасности, прекрасно представлял себе, как следовало бы поступить с полученной им конфиденциальной информацией для достижения максимального не только общественно-политического, но и чисто правового, юридического эффекта.
Ничего особо сенсационного касательно личности и деяний Л.Ф.Баштакова я не хочу кому-либо навязывать, но, как говорится в известном английском анекдоте, «Сэр, муха не ошибается!». Почему я подчеркнул здесь особую роль 1-го Спецотдела НКВД СССР? По целому ряду причин. Во-первых, лишь с его появлением в 1938 году и вследствие окончательного становления единой системы оперативного учета буквально накануне ВОВ впервые появилась возможность получить, наконец-то, хотя бы более-менее объемную, «непричесанную и неприглаженную» картину всего того, что реально творилось у нас в сфере формирования негласного аппарата органов безопасности и правоохранительных органов на местах. До этого централизация нужных оперативных сведений (как по действующей, так и по архивной агентуре, равно как и по секретным сотрудникам негласного и внештатного составов) была достигнута лишь в пределах сферы оперативно-следственной деятельности подразделений центрального аппарата НКВД, его территориальных управлений в Москве и Московской области.
Из Приказа народного комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии №00788 от 10.12.1938 года «О результатах обследования работы 1-го Специального отдела НКВД СССР»: «Проверка работы 1 Спецотдела НКВД СССР выявила преступную запущенность и полную неразбериху в организации оперативного учета, обработки и хранения дел, а также засоренность Отдела чуждыми в политическом отношении сомнительными элементами. Вредительское руководство, в лице бывших начальников 1 Спецотдела — Цесарского и Шапиро и их заместителя Зубкина, умышленно создавало хаос в работе Отдела и не очищало кадры работников от лиц, на которых давно имелись прямые данные об их контрреволюционных, шпионских связях.. Цесарский, Шапиро и Зубкин засоряли аппарат политически чуждыми и сомнительными элементами, затирая, сознательно не выдвигая честных, преданных партии и власти работников, вызывая тем самым среди них недовольство».
Во-вторых, именно они готовили для партийных и контрольно-наблюдательных инстанций обобщенные сведения по результатам деятельности различных внесудебных органов, особенно в сфере оценок масштабов осуществлявшихся в 30-х годах массовых «сталинских репрессий» и размеров безвозвратных потерь среди населения. Приведу в качестве примера знаменитую рукописную таблицу за подписью и.о. начальника 1 Спецотдела МВД СССР Павлова от 11 декабря 1953 года, подготовленную для Н.С.Хрущева, под названием «Справка о количестве осужденных по делам органов НКВД за 1937—1938 годы»: всего осуждено в 1921—1938 гг. 2 944 879 чел., приговорено к высшей мере наказания 745 220 чел. Другой документ то же отдела за той же датой называется «Справка о количестве осужденных по делам органов НКВД-МГБ-МВД за 1939—1953 годы»: всего осуждено за контрреволюционные преступления 1 115 427 чел, в том числе по статье 58—10 — 274 125 чел, к высшей мере наказания приговорено 54 235 человек. На архивные данные оперативно-справочного отдела по преимуществу опирались и в дальнейшем при составлении докладных записок КГБ СССР в ЦК КПСС.
В-третьих, в составе 1-го Спецотдела в декабре 1938 года было сформировано 2-е отделение, на которое были возложены функции учета опечатанных квартир, описанного имущества, конфискатов и содержания камер хранения. Насколько это было жизненно важным для руководства НКВД, видно хотя бы из текста докладной записки на имя Сталина за подписями Ежова и Берии, датированной октябрем 1938 года. По этой записке было принято решение Политбюро ЦК ВКП (б) №П65/12 от 1.11.1938 г. («Особая папка») «О квартирах для работников НКВД»: «Передать в распоряжение НКВД СССР 1 900 комнат из числа опечатанной в Москве жилищной площади репрессированных — для размещения сотрудников, и 600 комнат для вселения в них семей репрессированных, которые будут удалены с площади, передаваемой НКВД. Всего 2 500 комнат… Возобновить действие постановления СНК СССР о закреплении за НКВД жилищной площади, освобождаемой сотрудниками НКВД в чьих бы домах они не проживали». Тем же решением в распоряжение НКВД передавалась «мебель, подлежащая, при наличии судебных решений о конфискации, сдаче в госфонд и находящаяся в опечатанных квартирах, переходящих в жилищный фонд НКВД».
Думается, комментарии здесь совершенно излишни. Хотя бы относительно того, кто же в системе органов НКВД был наиболее осведомлен о конкретных адресах тех москвичей, которых, по меткому выражению М. Булгакова, более всего «испортил жилищный вопрос». Напомню в этой связи нашумевшую историю с участием одного из наиболее доверенных приближенных Генриха Ягоды — Александра Яковлевича Лурье, который через диамантеров Френкеля, Оппенгеймера, Гернштейна и Берензона реализовывал на Западе по заниженным ценам бриллианты и иные ценности, экспроприированные у «бывших людей», и якобы направляя вырученные денежные средства на цели развития внутриведомственного жилищного строительства, находившегося под прямым контролем Ягоды и Буланова.
Сегодня почему-то не очень принято вспоминать, что «Динамо», которое задумывалось в 1923 году, ровно 100 лет тому назад, как Московское пролетарское спортивное общество (ПСО), хотя и не сразу, но достаточно быстро скоро трансформировалось из военно-спортивной общественной организации в торгово-производственный кооператив с немалым оборотом денежных средств и с немалой прибылью от проведения различного рода далеко не физкультурно-спортивных мероприятий. Упомянутый мною А.Я.Лурье допрашивался НКВД в качестве председателя кооператива спортивного общества «Динамо». Вы чего-нибудь слышали о Жилом комбинате ОГПУ, который официально известен как жилой дом спортивного общества «Динамо» между Малой Лубянкой и Фуркасовским переулком, на первом этаже которого размещался вначале спортивный магазин одноименного названия, а впоследствии знаменитый «40-й гастроном»? Нет? А ведь это был грандиозный ансамбль помеси неоклассицизма с конструктивизмом в исполнении архитекторов И.А.Фомина и А.Я.Лангмана, состоявший из административной части и жилого корпуса, представлявший собой реплику здания Центрального телеграфа архитектора И.И.Рерберга на Тверской улице, являющегося одним из признанных символов советской Москвы с его вращающимся «пролетарским земным шаром».

В 1940 году жилой комплекс и спортивный магазин «Динамо» были переведены в другой весьма нехилый комплекс НКВД по адресу Тверская-Ямская улица, д.11, где ранее находился монументальный храм Василия Кесарийского с часовней — творением архитектора Фёдора Шехтеля. В нем когда-то проживали многие «чекисты на слуху» — от диверсанта и разведчика Судоплатова до «зловещего» следователя-душителя академика Н.И.Вавилова Хвата, которого именно «ценой героических усилий отыскала» журналистка «Московских новостей» Евгения Альбац.
Вот для строительства этих домов, равно как и знаменитого «особняка Ягоды на улице Мархлевского» (ныне Милютинский переулок) архитектора Лангмана, Центрального стадиона «Динамо» (архитекторы Лангман и Чериковер), поликлиники НКВД в Варсонофьевском переулке (архитектор Чериковер), жилого дома НКВД на Рождественском бульваре (архитекторы Лангман и Арбузников), общественного корпуса Болшевской трудовой коммуны ОГПУ в г. Королев (архитекторы Лангман и Чериковер), жилого дома НКВД в Большом Комсомольском (Златоустьинском) переулке (архитекторы, Лангман, Чериковер, Арбузников) и возведения многих других ведомственных сооружений добывал не совсем обычным способом денежные средства Лурье, сбывая за рубежом конфискованные у «врагов народа» ценности. Кстати, народный дом имели Короленко в Полтаве (где в мои времена находилась знаменитая школа №10, в которой первым директором был А.С.Макаренко учились ракетостроитель В.Н.Челомей и Герой Советского Союза Ляля Убийвовк — тоже архитектурное творение А.Я.Лангмана.
Из письма постпреда СССР в Германии Н. И. Крестинского Г. Г. Ягоде от 3 января 1925 года; «Тов. Лурье объяснил мне, что СТО предоставил ГПУ право реализовывать конфискованные ценности и обращать выпученную сумму в фонд рабочего (1) жилищного строительства. Я не имею основания сомневаться в словах т. Лурье, но, оказывая ему поддержку, желал бы иметь ОТ ВАС официальное подтверждение этого постановления. Кроме того. предоставление вам права реализовать находящиеся у Вас ценности не обозначают еще права самостоятельно производить эту реализацию за границей». Или письмо Крестинского от 8 января 1925 года: «Сегодня днем директор банка Гаркребо, находящегося против нас и связанного с нами внутренним телефоном, срочно попросил зайти к нему тов. Штанге и рассказал следующую историю…».
Самое интересное здесь вот что. Одним из конкретных итогов заключения Рапалльского соглашения 1922 года между РСФСР и Веймарской республикой стало создание Гарантийного и кредитного банка для Востока — Garantie und Kredit Bank Fur den Osten (Гаркребо). Он был основан в Берлине в ноябре 1922 года известным шведским банкиром Улофом Ашбергом. У. Ашберг по прозвищу «Красный банкир» был известен в западных банковских кругах своими тесными связями как с царской Россией, так и с большевистским руководством. В 1924 году банк перешел под контроль советского руководства и стал одним из первых совзагранбанков. С момента своего основания и примерно до середины 1927 года банк находился в системе Госбанка СССР и занимался организацией контроля за обращением за границей советского золотого червонца, а также реализацией золотых запасов, а после передачи его в cистему Наркомторга, под опеку Анастаса Микояна, он стал делать основной упор на обслуживание советских внешнеторговых операций за рубежом.
Улоф Ашберг — фигура заметная на международном политическом небосклоне по целому ряду важнейших исторических эпизодов. Во-первых, он был организатором знаменитой встречи будущего министра внутренних дел царской России Протопопова с представителями Германии по вопросу заключения сепаратного мира. Во-вторых, через его банк шла финансовая подпитка германской стороной большевиков по каналу Парвус-Ганецкий-Суменсон-Козловский-Ленин. В-третьих, именно он организовал канал нелегальной переправки части царского золота в Швецию с последующей его переплавкой, перемаркировкой и переправкой в США в банковские структуры Джона Пирпонта-Моргана-младшего. В-четвертых, он был экономическим партнером финансиста Коминтерна Вилли Мюнценберга и проворачивал не вполне чистоплотные валютно-кредитные операции по линии т.н. рабочих займов. В-пятых, он стал в 1922 году учредителем и первым генеральным директором Российского коммерческого банка, которые в апреле 1924 году (то есть сразу после смерти В.И.Ленина) стал акционерным банком «Внешторгбанк СССР». Международный жулик и авантюрист по фамилии Арманд Хаммер тащил из СССР картины и драгоценности, а У. Ашберг — древние русские иконы.
Был в те непростые для СССР времена в ходу очень хитрый проект американцев под названием план Дауэса — своеобразный аналог известного плана Маршалла для послевоенной Европы. Его декларируемая цель — обеспечить практическое выполнение Веймарской республикой уплаты всей суммы наложенных на Германию репараций по решениям Парижской мирной конференции 1919—1920 гг. Главным образом Версальского мирного договора 1919 года, в котором предусматривалась выплата Германией репараций в размере 132 млрд. золотых марок, что составляло эквивалент 33 млрд. долларов США. Механизм движения капиталов при этом выглядел примерно следующим образом: национализированное РСФСР царское золото через спекулянтов-посредников поступало в Швецию, с помощью банковских дельцов типа У. Ашберга обезличивалось и поступало в ФРС США, затем по плану Дауэса направлялось в Германию. Примерно так, как на этом снимке.
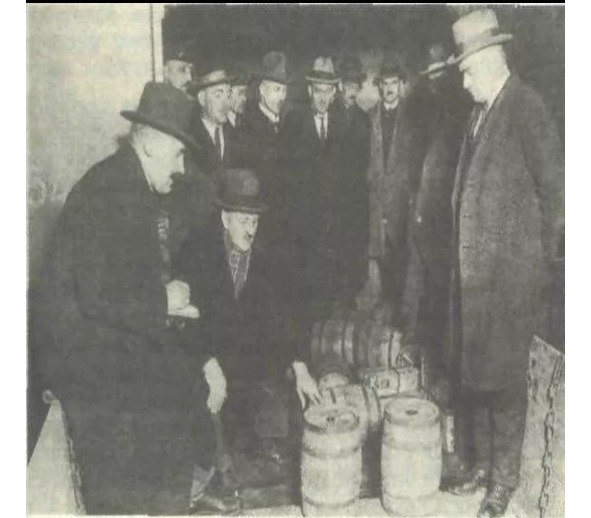
Германия на эти деньги обеспечивала развитие собственного промышленного производства, причем значительная часть выпущенных страной товаров направляется в СССР по торговым соглашениям, взамен Германия получает дефицитное сырье и живые деньги в виде червонцев доверенной креатуры Л.Д.Троцкого тов. Гирша Бриллианта (Сокольникова). Германия выплачивает репарации странам бывшей Антанты, прежде всего Франции и Англии, которые, в свою очередь, выплачивают их США в качестве зачета за кредитные долги времен Первой мировой войны. Кругооборот золото-валютных ценностей завершен. В накладе две страны — Германия и СССР. И.В.Сталин не зря выступил с резкой критикой наркома финансов Сокольникова и его сторонников на XIV съезде ВКП (б) в декабре 1925 года, когда троцкисты еще были в полной силе, именно по их неверной трактовке истинных целей плана Дауэса, который, по его меткому выражению, «был построен на песке». В эту же цепочку были встроены и контрабандные поставки на Запад по каналу репрессированного в 1937 г. и реабилитированного в 1961 г. г-на Александра Лурье «секретных алмазов Ягоды» — конфискованных ГПУ-ОГПУ бриллиантов, по оценке известного отечественного эксперта алмазно-бриллиантового рынка С.Г.Горяинова — из числа уникальных и редких, представлявших наибольший интерес для вышеупомянутых западных дилеров алмазного рынка. Как известно, в дальнейшем Гохран, находившийся в 20-е годы под тотальным контролем команды Троцкого и аккумулировавший у себя все алмазно-бриллиантовые ценности республики, вообще стал составной частью НКВД в виде его вначале 6-го, а затем 3-го Спецотдела.
А ссылки на то, что продажа российских бриллиантов по демпинговым ценам международным спекулянтам типа известный одесский жулик и будущий создатель ГУЛАГа Нафталий Френкель или же по «красинским» каналам компаний «Аркос», «Амторг», «Весторг», «Дерутра» и им подобных структур, нужны были для ускоренной индустриализации Советской России, а затем и СССР, пусть останутся в нашей исторической науке для недоразвитых субъектов. Ибо в период расцвета НЭПа (1925—1926 гг.) ставилась лишь задача преодоления отставания в тяжелой промышленности, и не более того.
Хотя в отечественной историографии XIV съезд ВКП (б) по-прежнему продолжает именоваться «съездом индустриализации», однако на нем было принято лишь общее политическое решение о необходимости превращения СССР из аграрной страны в индустриальную, не определившее при этом конкретные форма, методы, темпы и сроки осуществления индустриализации. Все это произошло гораздо позднее, после окончания «эпохи НЭПа», после провозглашения на V Съезде Советов сталинской концепции «великого перелома» с его знаменитой фразой в выступлении на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в феврале 1931 г.: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Дибо мы сделаем это, либо нас сомнут».
И для практической реализации этой концепции понадобились финансовые средства гораздо более значимые, чем поступления от продажи Гохраном Венчальной императорской короны английскому антиквару Норманну Вейсу в ноябре 1926 года, знаменитой бриллиантово-жемчуговой тиары «Русская красавица» в виде кокошника или уникальных драгоценностей из описей комиссии Базилевича-Троцкого. Вот когда развернулась в 1929—1932 гг. во всю мощь «Особая ударная бригада по отбору музейных ценностей экспортного значения» и Главная государственная экспортно-импортной контора Госторга РСФСР «Антиквариат» Наркомвнешторга г-на Анастаса Микояна! Даст Бог, я еще вернусь когда-нибудь к теме торговли музейными ценностями по каналу двух этнических собратьев — Анастаса Микояна и Галуста Гульбенкяна, там есть очень любопытные исторические зигзаги и развороты…
Вновь обращусь к заявленной в начале раздела теме. Меня всегда интересовала тема влияния этнического фактора на поведенческие особенности социума, которые изучает раздел науки под названием этнопсихология. Люди, как правило, без особых затруднений перечисляют черты, типичные, по их личной оценке, как для собственного, так и для других народов. И при этом их обобщенные характеристики зачастую, хотя и не всегда, совпадают как в оценках, так и в самооценках. Как правило, на умелом использовании поведенческих особенностей представителей отдельных социумов и строится вся вербовочная работа специальных служб, особенно их разведывательных звеньев. Однако почему некоторые социумы, в частности, этнические группы, рассеянные в очевидном меньшинстве по территориям, занимаемым другими этническими общностями, более восприимчивы к вербовочным усилиям разведок различных стран, а другие социумы к этому остаются явно безразличными? И здесь нам уж никак не обойтись без углубленного понимания того раздела этнопсихологии, которое отражает стремление человека воспринимать других людей прежде всего через призму своей этнической общности и которое носит название «этноцентризм».
Этот термин впервые ввел в научный оборот в начале XX века американский ученый-социолог социал-дарвинистского направления Уильям Грэм Самнер. Согласно теории Самнера «этноцентризм» означает свойство человека воспринимать все возникающие или складывающиеся межличностные и общественные отношения в масштабах социокультурных ценностей той этнической группы, к которой он сам принадлежит. Этноцентризм как свойство межэтнических отношений, с одной стороны, способствует сплочению и развитию этнической общности, формированию этнического самосознания и групповой принадлежности, но, с другой стороны, приводит к отделению от других общностей, отрицанию иных культурных ценностей, культурной самоизоляции и способствует возникновению и развитию межэтнических конфликтов. Считается, что крайней формой развития этноцентризма является национализм. У. Самнер считал, что этноцентризм является ключевым понятием в оценке существующих межэтнических взаимоотношений, и что он является универсальным и единственно возможным механизмом их регулирования. Исследования выявили ряд характерных особенностей, свойственных людям одной этнической общности, среди которых для разведок наибольший интерес представляют две из них. Первое- люди одной этнической общности склонны считать ценности и нормы своей поведенческой культуры безусловно верными. Второе — люди одной этнической общности склонны группироваться и консолидироваться с представителями той же общности и действовать таким образом, чтобы представителя своей культурной общности в конечном итоге были бы в выигрыше.
Во время моего обучения в Краснознаменном институте КГБ при СМ СССР курс оперативной психологии занимал целый год. Курсантам читались многочасовые лекции, для них многократно проводились специальные теоретические и практические семинары, слушатели института перелопачивали буквально горы рекомендованной литературы, а вот реального проку от всех этих занимательных обследований и наблюдений с фиксацией перемещения рук, ног, головы, глаз и других частей тела твоего собеседника, изучения его реакции на проверочные вопросы в специально создаваемых ситуациях, использования самых различных техник и методик распознавания «невербальных сигналов организма» было маловато. Все это скорее смахивало на типичное шарлатанство, которым, впрочем, отдельные юркие персонажи умело пользовались.
Помню одного своего кратковременного начальника на посту «направленца» в 5-м линейном отделе, выходца из информационно-аналитического подразделения разведки — Управления «РИ». У которого использование приемов и методов оперативной психологии было своеобразным «бзиком», «хобби», которым он, тем не менее, очень гордился и всячески выпячивал как несомненное достоинство. Ну, и что, помогла ему подобная «оперативная психология» при проведении реальной вербовочной работы «в поле»? Насколько я осведомлен — нет, не помогла, а совсем даже наоборот. Лично мне навыки оперативной психологии в практической работе за рубежом всерьез понадобились лишь однажды: в процессе окончательного распознавания подставы местных спецслужб, хотя использованная ими «наживка» была очень уж заманчивой и привлекательной для любого оперативного работника резидентуры.
А вот учет в разведывательной работе особенностей национального характера, о котором я писал в первом томе этой книги со ссылкой на славные деяния недавно рассекреченного СВР РФ резидента-групповода М. Онеля («Генри»), в моей практической работе сгодились неоднократно и даже с несомненным успехом. Ведь в оперативной работе что главное? Установить контакт с нужным человеком и всячески стараться развить его, закрепить и углубить, а там уж как кому повезет и как Бог подсобит… С точки зрения организации и проведения агентурно-оперативной деятельности на территории любого иностранного государства ложь выступает как важнейший манипулятивный инструмент в формировании у субъектов этой деятельности (неважно при этом, оперработник это или агент) нужных, «полезных для дела» оценок в отношении существующей (или преобладающей, доминирующей) системы ценностей и общих интересов среды, в которой они осуществляют свою в общем-то подрывную или, выражаясь предельно корректно, незаконную, противоправную деятельность.
Почему, спрашивается, Коминтерн был самой эффективной из всех известных доныне современных разведывательных структур? Из-за фанатичной приверженности активистов входящих в него партий «глубоко классовой идее неизбежной победы всемирной пролетарской революции», получившая свое воплощение в знаменитом лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Да еще и в целях создания провозглашенной В.И.Лениным «Всемирной федеративной республики Советов»? Да еще и за счет втягивания в освободительный процесс «народов Востока, составляющих большинство населения мира», начало которому было положено Бакинским конгрессом 1920 года с его «новаторской» идеей «революционного газавата»? Или путем создания главным партийным отщепенцем Л.Д.Троцким новой международной организации под названием «Интернациональная левая оппозиция (большевики-ленинцы)?
Нет, чушь все это! Коминтерн представлял собой скорее узко корпоративную, преимущественно моноэтническую структуру, которая ассоциировалась у советских людей прежде всего с именами Зиновьева, Троцкого, Бухарина, Радека, Пятницкого и других этнически ярко окрашенных оппозиционеров, будущих «невинных жертв» сталинских репрессий. Видимо, И.В.Сталин все же не зря на одном из заседаний Политбюро ЦК ВКП (б) в 1927 году в сердцах сказал очень откровенно и недвусмысленно: «Кто такие эти люди из Коминтерна? Это нахлебники, живущие за наш счет. И через девяносто лет они не смогут сделать ни одной революции».
Должен откровенно признаться, что лично я, как профессиональный разведчик, всегда с определенным скепсисом относился к той стороне деятельности советских и зарубежных кадров Коминтерна, в которой главенствовал пресловутый «финансовый вопрос», а он там присутствовал, увы, буквально на каждом шагу. «Мировая пролетарская революция», «политическое господство пролетариата путем установления его диктатуры», «экспроприация собственности эксплуататорских классов» и прочие высокопарные «ля-ля-ля-тополя» в устах выходцев из мелкобуржуазной еврейской среды звучали как откровенное издевательство над здравым смыслом при трезвом взгляде на происходящее. Особенно очевидным это стало после того, как все эти передовые «носители пролетарского классового сознания» стали дружно, один за другим вываливать на своих же собратьев ведра помоев во имя спасения собственной шкуры, лживо мотивируя подобное достаточно мерзостное действо «раскаянием перед партией», реальными или мнимыми зверствами «костоломов-чекистов» и прочими словесными уловками.
Давайте-ка посмотрим на все их тогдашние телодвижения через призму использования «лжи с примесью правды», как любил выражаться известный славянофил К.С.Аксаков. Или же под углом зрения оценки людских поступков по формуле кумира московской интеллигенции поколения «шестидесятников», известного советского поэтического переводчика Давида Самуиловича Самойлова (Кауфмана) по прозвищу «Дэзик». Несостоявшегося, по его словам, генерала, президента и великого путешественника, но зато вполне состоявшегося вундеркинда, поэта и кавалера почетного знака «Отличный разведчик». Она была сформулирована им персонально для очень известного и талантливого советского (впоследствии также и израильского) актера и режиссера Михаила Козакова, исполнителя роли Ф.Э.Дзержинского в целом ряде фильмов и сериалов, и звучала так: «Что полуправда? Ложь! Но ты не путай часть правды с ложью, ибо эта часть нам всем в потемках не дает пропасть».
В большинстве протоколов допросов работниками ОГПУ-НКВД представителей «старой ленинской гвардии» эта «часть правды» (или же «ложь с примесью правды») сочится буквально через край и, по-видимому, именно по этой причине их длительное время не предавали публичной огласке из-за опасения вдребезги разрушить авторитет многих «незаконно репрессированных» и впоследствии «полностью реабилитированных» партийных и советских руководителей довоенного периода! А как прикажете по-иному относится к конкретным историческим персонажам, которые в одних эпизодах выступали в роли палачей, а в других, но совершенно сходных, ситуациях являлись уже жертвами ими же самими созданной политической системы?
Вот, например, что в 1918 году говорил в своей речи «вождь Северной Коммуны» Зиновьев: «Нужно уподобиться военному лагерю, из которого могут быть кинуты отряды в деревню. Если мы не увеличим нашу армию, нас вырежет наша буржуазия. Ведь у них другого пути нет. Нам с ними не жить на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой 90 милл. из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожать. Большая ответственность лежит на нас перед мировым пролетариатом, который видит, что только в России власть перешла к рабочему классу» (газета «Северная Коммуна», №109 от 19 сентября 1918 года, стр.2). Речь классового людоеда, не так ли?
Но вот ведь что говорил 5 февраля 1934 года на утреннем заседании XVII съезда ВКП (б) всё тот же Зиновьев: «Товарищи, после того, как меня в первый раз вернули в партию. Мне пришлось выслушать однажды из уст товарища Сталина такое замечание. Он сказал мне: «Нам в глазах партии вредили и вредят даже не столько принципиальные ошибки, сколько то непрямодушие (!) по отношению к партии, которое создалось у вас в течение ряда лет» (Многочисленные возгласы: «Правильно, правильно сказано!)». Да, воистину богат русский язык, когда очень простое и всем понятное слово «ложь» можно легко и играючи заменить даже не на «двоедушие», а на какое-то невнятное «непрямодушие»!
Явно непрямодушным человеком был покаранный и полностью реабилитированный в 1988 году российский революционер еврейского происхождения и химик-недоучка Григорий Евсеевич Зиновьев (Радомысльский), произнесший столь пламенные и столь же потрясающие по своей силе и по своему лицемерию слова: «Я полностью и до конца понял, что если бы не то руководство, не те железные кадры, которые повели партию в борьбе против всех оппозиций, то партии, стране, рабочему классу, делу Ленина и революции угрожала бы более чем реальная опасность. От этой опасности спасло то руководство, которое чтут рабочие, весь рабочий класс, которое чтут лучшие люди нашей страны и рабочий класс всего мира». Руководство — это, ясен пень, товарищ Сталин, внесший свой неоценимый вклад в сокровищницу мирового коммунизма, железные кадры — естественно, Ягода, «первый инициатор, организатор и идейный руководитель социалистической индустрии тайги и Севера», оппозиция — скорее всего, подлец и негодяй эмигрант Троцкий, лишенный советского гражданства. Ну, а пролетариат — он и в Африке неимоверная силища и гегемон по определению, объективно подтверждающий самим фактом своего существования незыблемые законы диктатуры пролетариата, записанные, по словам Зиновьева, Марксом, Энгельсом и Лениным…
Секретарь Коминтерна, видная «еврейская, советская и итальянская социалистка» Анжелика Исааковна Балабанова (в девичестве Ройзман), о которой сегодня мало кто даже вспоминает, в своей книге «Моя жизнь — борьба» отмечала: «После Муссолини, которого я все-таки лучше и дольше знала, я считаю Зиновьева самым презренным человеком, с которым я когда-либо встречалась…». Да, уж, очень интересным был сей марксистско-ленинский теоретик, который, еще только готовясь к отправке в ссылку в Кустанай осенью 1932 года, не поленился и при посредстве профсоюзника Томского получил подряд на перевод «за государственный кошт» (то есть, за самый тривиальный нехилый гонорар) в издательстве «Соцэкгиз» на русский язык книги А. Гитлера «Майн кампф» (внесенной Минюстом РФ, как я уже указывал прежде, в Федеральный список экстремистских материалов за №604 и запрещенный к распространению в Российской Федерации). Этот исторический перевод бывшего «вождя Коминтерна» был издана ограниченным тиражом для узкого состава высшего партактива с грифом «Для служебного пользования». Эту книгу потом якобы с карандашом в руках изучали Сталин, Калинин, Бухарин и другие руководители, так это или нет — не знаю. А вот Ягода, Ежов и Берия поступили проще — они ознакомились с содержанием произведения фюрера по тексту «конфиската» зарубежного белоэмигрантского издания 1936 года, я об этом упоминал в другой своей книге.
Так почему же так изолгался Зиновьев, что даже перед смертью запел не «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов»!, а, по свидетельству тогдашнего начальника «девятки» НКВД Паукера — «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад!»? То есть те последние слова главной молитвы иудеев, которые являются символом веры, своеобразным девизом для каждого еврейского мученика. Возможно потому, что он, в отличие от своего соплеменника и земляка Троцкого, был не только «пламенным интернационалистом, напрочь «забывшем» о своем еврействе, но еще и человеком, всегда помнившим о своих этнических корнях.
Его весьма характерное «покаянное» поведение в период судебного процесса по делу т. н. Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра («процесса шестнадцати»), равно как и тройное (!) его исключение из партийных рядов — это яркое отражение вывода, сделанного учеными, специализирующимися в области социальной психологии: «Этнический коллективный субъект, определяя доминирующие в этносе ценности и нормативные способы использования лжи в процессе социального взаимодействия, формирует определенный спектр отношений среди представителей данного этноса, что позволяет говорить о наличии границы социальной (этнокультурной) допустимости лжи».
Имеется целый ряд серьезных, глубоких научных исследований, в том числе и в нашей стране, посвященных анализу специфики особенностей лжи представителей различных национальных культур. В них, в частности, отмечено, что негативный потенциал лжи, то есть степень общественной опасности и совокупный уровень негативных последствий отдельных видов лжи, совершенно по разному оценивается представителями различных культур, разных этнических групп. Для иллюстрации этого тезиса сошлюсь на диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук А.С.Чахоян в Ивановском государственном университете под названием «Этнокультурный аспект лжи в ситуациях социального взаимодействия» (социальная психология). Ее научным руководителем выступал доктор психологических наук профессор Владимир Иванович Назаров, ученик Р.Б.Гительмахера и В.В.Новикова, двух ярких представителей Ярославской психологической школы. В автореферате особо подчеркивалось, что в указанном исследовании понятия этнос и нация рассматривались как тождественные, поскольку специфика использованной социологами выборки позволяла использовать примордиалистский подход, в котором понятия «нация» и «этнос» имели сходное определение.
Вот к каким базовым выводам пришли ученые из Иваново. «Люди разных национальностей, проживая в условиях одного государства, принимают нормы одного сообщества, но при этом стремятся сохранить и развить нормы, ценности и традиции собственных сообществ (в том числе и границы дозволенности, принятые в культуре сообщества) … Ложь многогранна и затрагивает практически все сферы человеческой деятельности, ее изучение становится все более актуальной проблемой. Ложь во многом зависит от системных процессов, в частности, от культуры сообщества, в котором она реализуется. Постепенно сужая границы понимания изучения лжи, начиная с понимания ее как фактора адаптации, через выделение границ лжи, устанавливаемой сообществом (любой социальной общностью), мы приходим к необходимости изучения границ лжи, обусловленных этнической идентичностью, устанавливаемых конкретным коллективным субъектом. Подобные размышления, основанные на анализе по теме лжи, приводят к необходимости постановки вопроса о культурной относительности особенностей лжи и необходимости изучения национальных различий в проявлении неискренности».
Когда я обучался в Краснознаменном институте КГБ, а затем работал на различных должностях в Центре советской внешней разведки, я все никак не мог взять для себя в толк: почему это советская сторона упорно открещивалась от признания причастности супругов Этель и Джулиуса Розенбергов к деятельности советской разведки? Истекло уже более семидесяти лет со дня их трагической гибели. За истекший период информационно-пропагандистского шуму вокруг их имен с регулярной периодичностью и даже с определенной закономерностью возникало во всем мире более чем достаточно. Но определенности при этом не рождалось никакой — совсем как в известном анекдоте: «Как вам это нравится, mоn cher? Все равно: он ли шубу спер или же у него сперли…». Однако сакральная фраза «герои и жертвы атомного шпионажа» при этом присутствовала непременно, хотя и с совершенно различной коннотацией с точки зрения психологического восприятия написанного или произнесенного.
Супруги Розенберги давным-давно подверглись в тюрьме Синг-Синг мучительной казни на электрическом стуле, так что хуже им от того — действительно были ли они «похитителями американских атомных секретов» или нет — уже определенно не станет. Компартия США Гэса Холла, Генри Уинстона и Анжелы Дэвис, через которую супруги вышли на контакт с советской разведкой, после окончания довольно длительного периода череды судебных процессов по фактам нарушения закона Смита успешно прошла этот нелегкий этап, хотя ее после 1953 года настолько плотно «нашпиговали» агентурой и ФБР, и ЦРУ, и еще Бог знает кого, что спецслужбам США выудить путем анализа контактов основных фигурантов дела Розенбергов какие-то новые оперативно значимые сведения вряд ли удалось бы.
Пока в относительной информационной тени еще находился Клаус Фукс, можно было бы и далее строить определенные догадки и предположения. Однако он с начала 60-х гг. уже вполне легально находился в ГДР, работал заместителем директора института ядерных исследования, а затем и вовсе стал вполне легальной политической фигурой — членом Президиума АН ГДР и членом правящей ЦК СДПГ. Какое-то время можно было полагать, что разгадка истории создания таинственного флёра вокруг супругов Розенбергов была на определенном этапе связана с личностью предполагаемого пятого члена «кембриджской пятерки», имя которого сегодня знают все — Джон Кернкросс.
По моей субъективной оценке, именно он был наиболее продуктивным источником в этой агентурной группе (по итоговым результатам, разумеется). Ким Филби, конечно, и знал значительно больше, и статус в британском разведсообществе у него был более высоким, и оперативными материалами он располагал гораздо более высокого порядка, чем Кернкросс. Однако в советском атомном проекте Филби сыграл роль не более, чем тот же Павел Судоплатов, который всячески пытался «приобщиться» именно к этой тематике и уйти подальше от своих «славных подвигов» на ниве совместных оперативно-следственных похождений с профессором-медиком Майрановским и другими видными представителями эпохи «чекистских врачей-отравителей».
Когда я обучался в чекистском ВУЗе, моими учителями-наставниками были и А.С.Феклисов. и В.Б.Барковский, и Ю.И.Модин, и А.А.Яцков, и В.А.Дождалёв, и другие выдающиеся советские разведчики, которые в свое время были прямо причастны к добыче секретной информации по «атомной тематике». Однако, признаюсь откровенно, не могу припомнить, чтобы кто-то из них в своих достаточно детальных и откровенных выступлениях перед слушателями столь откровенно превозносил бы роль П.А.Судоплатова в обеспечении успеха «атомного проекта СССР», как это практически повсеместно делается сегодня. Его роль и значение как мастера многих успешных спецопераций за рубежом, как основного организатора разведывательно-диверсионной работы и ведения партизанской борьбы в тылу немецко-фашистских войск в годы войны и как непосредственного руководителя созданного им ОМСБОНа НКВД СССР, совершенно очевидны и их никто не намерен преуменьшать. Однако в годы войны ему вполне доставало многих других забот помимо «непосредственного руководства ценной зарубежной агентурой в США и Англии», чего, безусловно, в реальности не было.
В.Б.Барковский еще задолго до своей кончины публично расценивал это нездоровое явление как «судоплатовщина». А ведь он был специалистом высочайшего класса не только как многоопытный разведчик — агентурист, но и как видный эксперт в области использования передовых, пилотных технологий в сфере добычи информации аппаратурным путем, с применением средств специальной техники. До сих пор помню его впечатляющий рассказ об итогах командировки в Сайгон (будущий Хошимин) в качестве руководителя группы КГБ СССР по осмотру помещений захваченного вьетконговцами регионального представительства ЦРУ в Юго-Восточной Азии. Интереснейшими были как его собственный наблюдения, так и сделанные экспертной группой КГБ выводы про результатам анализа проведенной ЦРУ США операции «Порывистый ветер».
Я хорошо знаю из собственной оперативной практики и совершенно отчетливо представляю, что для высокопоставленного руководителя разведки на деле означает термин «непосредственное руководство деятельностью ценной агентуры с позиции Центра». В случае удачи и достижения конкретного позитивного оперативного результата — «мы тоже пахали», «трудились как рабы на галерах». При провале же — «во всем, образно говоря, виноват Чубайс», то бишь «рядовой труженик полей» из числа сотрудников низового оперативного звена резидентуры. В тех специфических условиях, в которых перед войной трудились сотрудники всех четырех резидентур НКВД в США, «наломать дровишек» было проще простого.
Это наблюдалось, в частности, в тех случаях, когда источники бывшего коминтерновца и будущего члена Президиума Еврейского антифашистского комитета Григория Марковича (Гирша Менделевича) Хейфеца (Лос-Анджелес, псевдоним «Харон») по указке Центра «перепроверяли информацию» источников Семёна Марковича Семёнова (Самуил Маркович Таубман, псевдоним «Твен»). А ведь именно у него, в свою очередь, в разное время находились на связи и супруги Розенберги, и супруги Коэны, которые позднее стали связниками Рудольфа Абеля и Конона Молодого. Немотивированное образование горизонтальных связей в разведке — вещь крайне опасная прежде всего с точки зрения возможности провала всех звеньев сети!
Вообразите себе немыслимую ситуацию: вице-консул СССР Хейфец («господин Браун») в ходе проведения оперативной разработки Оппенгеймера (негласного члена аппарата «товарища Браудера», племянника генерального секретаря компартии США) вдруг начинает интересоваться у последнего потенциальными способами разделения изотопов урана! Или задает ему вопрос типа: «а правда ли то, что половину запасов добытой урановой руды из Конго тайно переправили в США, а другую половину немца захватили на обогатительной компании „Юнион миньер“ в Бельгии и тоже тайно вывезли в Германию, зачем им все это нужно?». Или «что вы слышали о создании немецким физиком Гайзенбергом фирмы „Ауэр“ („Ауэргезельшафт“) и чем она сейчас занимается»?
Кстати, с членом Радиевого синдиката тех времен, головным предприятием которого был берлинский «Ауэр» — австрийской фирмой «Трейбахер Хемише Верке», основанной в 19-м веке химиком Карлом Ауэром фон Вельсбахом (сейчас Трейбахер Индастри АГ) я имел достаточно тесные деловые бизнес-контакты в период своей работы в ООО «Минерал Групп», так как она была и остается основным, наряду с французской фирмой «Родиа», европейским продуцентом редкоземельных металлов. А где присутствуют редкие земли — там всегда наличествуют и торий, и уран, и прочая весьма востребованная ныне радиоактивная гадость типа полония, теллура. актиния и радия.
Маститые, именитые, всеми признанные авторитеты в этой очень специфической, узкоспециализированной области научных знаний (а их всегда можно было пересчитать во всем мире по пальцам обеих рук) сходу поймут, откуда «дунул попутный ветерок» и тот же час сообразят, что где-то совсем рядом, по соседству с ними явно образовалась «протечка». Как это и произошло, к примеру, в случае со столь разрекламированными П.А.Судоплатовым двумя полуконспиративными встречами и задушевными беседами в ноябре 1945 года группы советских представителей с Нильсом Бором. «Интервью» с датским физиком обеспечивала специально подготовленная и тщательно проинструктированная бригада под руководством начальника научно-технической разведки НКГБ СССР полковника Л.П.Василевского. В нее вошли будущий член экспертного совета по советскому атомному проекту кандидат физико-математических наук Я.П.Терлецкий и бывший личный переводчик А.И.Микояна инженер Ашот Арутюнов, только-только вернувшийся из США по окончании долгосрочной загранкомандировки. Ну, и какова была достигнута реальная отдача от этой исторической поездки? «Бесценная» ротапринтная копия открытого и уже опубликованного в США в августе 1945 года отчета Г. Смита под названием «Атомная энергия для военных целей»? Не смешите мои тапочки, как говорят в таких случаях в Одессе…
В марте 1945 года в Лагере-2 (Лос-Аламосская национальная лаборатория США, в которой в то время трудился и агент НКГБ К. Фукс) уже вовсю ведется работа не только по американским атомным изделиям для Хиросимы и Нагасаки, но и по «Супербомбе» — супергаджету физика Эдварда Теллера! В среде физиков-ядерщиков уже все громче звучат словосочетания «дейтериды и тритиды металлов». В знаменитой британской газете «Таймс» в октябре 1945 года публикуется заметка о выступлении в Бирмингеме австралийского физика профессора Маркуса Олифанта (одного из первооткрывателей водородного изотопа трития) о вполне реальной возможности создания бомб мегатонного класса путем осуществления термоядерной реакции в легких ядрах!
Всемирно известное датское светило по фамилии Нильс Бор на прямо заданный ему представителями советской стороны вопрос «Справедливо ли появившееся сообщение о работах по созданию сверхбомбы» явно уклончиво резонерствует: «Я думаю, что разрушающая сила уже изобретенной бомбы уже достаточно велика, чтобы смести с лица земли целые нации. Но я был бы рад открытию сверхбомбы, так как тогда человечество, может быть, скорее бы поняло необходимость сотрудничества. По существу же, я думаю, что эти сообщения не имеют под собой достаточной почвы. Что значит сверхбомба? Это или бомба большого веса, чем уже изобретенная, или бомба, изготовленная из какого-то нового вещества (!?). Что же, первое возможно, но бессмысленно, так как, повторяю, разрушающая сила бомбы и так велика, а второе — я думаю, что нереально». А потом Нобелевский лауреат 1922 года еще и накатал, как выяснилось впоследствии, «письменную телегу» об итогах этой встречи в датскую полицию!
Думается, на самом начальном этапе зарождения советского атомного проекта с точки зрения обеспечения конспирации и зашифровки нужных сведений все обстояло одновременно и проще, и сложнее. Когда на одной и той же достаточно узкой вербовочной поляне выходцев из Российской империи еврейского происхождения начинают одновременно «пастись» штатные, внештатные, легальные, нелегальные работники самых различных разведывательных структур Советского Союза (Коминтерна, РУ ГШ, НКВД) неизбежно где-то или что-то «заискрит», и ФБР США должно было быть совершенно слепым, чтобы этого не заметить. Так, кстати, и произошло в реальности, если не ошибаюсь, с одним из источников из нелегальной группы А.А.Адамса (псевдоним «Ахилл», это будущий Героя Российской Федерации). Кстати, Артур Адамс в течение некоторого времени был заведующим техническим отделом в Миссии Л. К. Мартенса, о которой я упоминал в своей книге «Погляд скрозь гады. Белорусские очерки иностранного консультанта».
Ситуация в этой сфере стала выправляться лишь после июля 1943 года, когда в результате детального обсуждения вопроса на ГКО были приняты необходимые организационные решения в проведении разведывательной работы за рубежом. В частности, было принято принципиальное решение о разделении функций и направлений деятельности военной и внешней разведок СССР. При этом внешней разведке НКГБ отводилась роль головной организации по разведыванию проблем создания атомного оружия. В соответствии с постановлением ГКО военной разведке было предложено передать НКГБ свою агентуру, работающую по проекту «Энормоз». Так в ведение советских чекистов попал, в частности, основной источник сведений по данной тематике — немецкий физик Клаус Фукс. Он был завербован в Лондоне военной разведкой, а связь с ним в США резидентура осуществляла через агента Гарри Голда (Генриха Голодницкого), работавшего на Пенсильванской сахарной фабрике. В ходе реализации ФБР секретного проекта «Венона» (перехват и дешифровка американскими специальными службами переписки советского Центра с рядом зарубежных резидентур) именно он оказался одним из наиболее слабых звеньев в цепи и в своих признательных показаниях выдал очень многих — Клауса Фукса, Мортона Собелла, Дэвида Грингласса, ну и, конечно же, супругов Юлиуса и Этель Розенберг.
Очень характерным является здесь то, на какой идейной основе Гарри Голд был привлечен к сотрудничеству с СССР: «Я ценил то, что Советский Союз первым ввел уголовное наказание за антисемитизм, — вспоминал Голд уже после своего освобождения из тюрьмы.- Я был готов сделать все, что от меня зависело, чтобы СССР превратился в сверхдержаву. Бороться с антисемитизмом здесь, в Америке, было делом безнадежным». Лет десять назад издательство Йельского университета опубликовало книгу американского исследователя Аллена Хорнблюма «Невидимый Гарри Голд». В этой книге Хорнблюм обращает внимание прежде всего на чистосердечное признание Голда на суде: «Он сказал чистую правду, а Юлиус Розенберг откровенно врал».
Впрочем, у наших «специалистов по делу Розенбергов» несколько иной взгляд на происшедшее в США эпохи расцвета «маккартизма и охоты на коммунистических ведьм». Ими проводятся прямые аналогии с делом Дрейфуса, о котором я упоминал в начале главы. Вот что писалось в заметке на портале «Jewish.ru» в июне 2015 года под названием «Юлиус и Этель Розенберги: дело Дрейфуса по-американски»: «Все действующие лица этой драмы оказались евреями — сами Розенберги, Гринглас и его жена Рут (которая тоже дала показания против родных), физик Клаус Фукс и химик Гарри Голд… Розенберг утверждал, что этот процесс — охота на ведьм, то есть на коммунистов. В антисемитизме своих судей Юлиус обвинить не мог: гособвинитель Ирвинг Сейпол, требовавших для Розенбергов смертной казни, был евреем. Судья Ирвинг Кауфман — тоже. Но в прессе развернулась настоящая антисемитская компания. Многие СМИ пытались объяснить просоветскую позицию Розенбергов их национальностью, а некоторые даже писали, что евреи просто неспособны быть настоящими американцами. И уж ни одна статья не обходилась без упоминания национальности Розенбергов».
Существует официальный Youtube-канал писателя и телеведущего Леонида Млечина под названием «История Леонида Млечина», ведущий свое начало с октября 2017 года. Авторская запевка канала звучит так: «Мы, как общество, не хотим знать свою историю. Нет запроса на новые знания. Есть запрос на подтверждение давно усвоенных схем. Не желаем осваивать новую информацию, знакомиться с документами, вникать, разбираться… А ведь мало что интереснее и важнее истории. Этот канал для тех, кому небезразлично наше прошлое». Охотно солидаризируюсь с автором: должны, причем непременно. Последуем его призыву и посмотрим передачу Л. Млечина под названием «Казнь на почве антисемитизма? За что американцы приговорили супругов Розенберг». Она была посвящена 70-летию этого трагического события. Ее содержание, как сейчас принято, в записи продублировано на портале «Яндекс-Дзен». Лично я рассматриваю этот СМИ-источник как самую примитивную «piege pour les cons» (см. французский художественный фильм «Высокий блондин в черном ботинке) и бесплатную социологическую спецслужбу для обслуживания жизненных интересов правящей верхушки, имеющую откровенно провокативную направленности по своим целям, задачам и выполняемым функциям.
Читаем заметку Л. Млечина. «Юлиус Розенберг выбрал правильную позицию защиты. Он попытался представить процесс не только как антисоветский, но и как антисемитский. Это могло сработать на фоне свежих впечатлений от ужасов холокоста. В защиту обвиняемых высказались Альберт Эйнштейн, Томас Манн и даже папа римский Пий XII. Однако американская Фемида была тоже не лыком шита. Процесс было поручено вести евреям — главному судье Кауфману и государственному обвинителю Сайполу. В ходе судебного процесса факт сотрудничества подсудимых с советской разведкой был доказан». В своем заключительном слове Ю. Розенберг сказал:» Я не удивлен вынесенным вердиктом — правительству нужен был кто-то, кто ответит за все его просчеты: и за гибель наших солдат в Корее, и за всеобщую нищету, вызванную избыточными оборонными расходами. Опять же всем недовольным нужно было объяснить, что правительство вправе их прикончить. Похоже, нам суждено стать первыми жертвами американского фашизма». «История с Розенбергами, — заключает Млечин, — это же, конечно, еще раз скажем об этом, самое зримое проявление такого безумия, которое охватывает целые страны, и в этом безумии почти всегда присутствует антисемитская нота».
«Независимая газета» в своем приложении НВО «Спецслужбы» (интернет — версия от 01.10.2010 г.). в статья «Эшафот супругов Розенберг» рассказала о том, что внучка казненных супругов Розенбергов недавно сняла документальный фильм. В нем имеется один достаточно показательный штришок: «Эйми Миропол встречалась со вдовой тюремного раввина Эрвина Куслова, которой до последнего часа оставался со своими единоверцами и соплеменниками. Согласно рассказу вдовы Куслова, после казни Юлиуса ее муж пришел к Этель и сказал. «Юлиус мертв. Вспомни, что ты оставляешь в этом мире сиротами двух своих детей. Назови одно имя, любое, хотя бы вымышленное, и это тебя спасет. Ответ Этель был безапелляционным: «У меня нет никаких имен. Я не виновна в преступлении, в котором меня обвиняют. Я готова умереть». Многие американские евреи, опасаясь обвинений в нелояльности к государству, отвернулись от Розенбергов. Еврейское кладбище Нью-Йорка отказалось хоронить казненных супругов. С большим трудом семье, члена которой состояли в Комиссии по спасению Розенбергов, удалось найти место на одном из небольших кладбищ… Атеистов Розенбергов похоронили по религиозному обряду».
Что я усмотрел в описанном отрывке с позиций совокупности всех ставших доступными знаний на сегодняшний день? Пожалуй, то, что адвокат супругов Розенбергов Эммануэль Блох явно дал маху, когда стал настойчиво советовать Юлиусу и Этель твердо стоять на своем, отказываться от каких-либо показаний против себя, ссылаясь на Пятую поправку к Конституции США, и надеялся при этом на дух федерального закона, отрицавшего возможность вынесения смертной казни за шпионаж в мирное время. И уж тем более эфемерной была надежда адвоката на воздействие негативного эффекта от этого процесса на состояние двухсторонних отношений между СССР и США. На момент вынесения приговора судом присяжных (29 марта 1951 г.) и оглашения окончательного вердикта судьей (5 апреля 1951 года) был самый разгар войны в Корее!
У президента США Гарри Трумэна основной головной болью был Главнокомандующий войсками ООН в Корейской войне генерал армии Дуглас Макартур с его вполне реальной угрозой «грохнуть ядерной бомбой по Китаю», а отнюдь не Компартия США со своими активистами достаточно блеклого шпионского окраса. Адвокаты Розенбергов (а они на втором этапе, после вынесения судом присяжных приговора были уже очень серьезными, авторитетными и очень влиятельными, ведь не зря же исполнение вынесенного приговора затянулось белее чем на два года, с 5 апреля 1951 г. по 19 июня 1953 года).
Хотите, нагоню в этот абсолютно непонятный сюжет еще и немного «конспирологического» тумана? Пожалуйста! Ровно через неделю после казни супругов Розенбергов (якобы «главных советских атомных шпионов») на электрическом стуле в США в Советском Союзе 26 июня 1953 года был арестован по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти главный и неоспоримый куратор всего советского атомного проекта Лаврентий Павлович Берия. И это чрезвычайное событие произошло в нашей стране при том, что до взрыва первого в истории человечества термоядерного устройства на Семипалатинском полигоне оставалась ровным счетом полтора месяца!
На июльском (1953 года) Пленуме ЦК КПСС, который продлился целых пять (!) дней, со 2-го по 7-е июля, в своем докладе по основному вопросу Г.М.Маленков произнес следующие слова: «Известно, что Берия ведал специальным комитетом, занятым атомными делами. Мы обязаны доложить Пленуму, что и здесь он обособился и стал действовать, игнорируя ЦК и правительство в важнейших вопросах работы специального комитета. Так, без ведома ЦК и правительства принял решение организовать взрыв водородной бомбы.. Надо ли говорить о значении этого факта? Когда ему руководящие работники специального комитета (они здесь — тт. Ванников, Завенягин) дали проект решения для внесения в правительство, он, Берия, перечеркнул этот документ и единолично вынес решение, скрыв его от ЦК и правительства».
Сказать, что Маленков — круглый идиот, пожалуй, трудновато, все-таки долголетняя «правая рука вождя всех народов», но как можно расценивать сегодня это его заявление за буквально месяц до начала испытаний нового стратегического оружия? В США его, наверно, посадили бы за деяния такого рода в одну теплую компанию с «атомными шпионами», которые выдают потенциальному государственные секреты особой важности! Читайте сами этот «строго секретный» стенографический отчет Пленума ЦК (РГАНИ, ф.2, оп.1,д.45, лл.2—25) и размышляйте сами.
Выступление Н. С. Хрущева оставляю без внимания, там сплошной политический бред, а вот у В.М.Молотова есть один весьма любопытный момент, процитирую его. «В последние три месяца для поведения Берия было характерно, что он стал наглеть и торопиться в своих вылазках против нашей партии и Советского правительства. Очевидно, что это было не только его личным желанием, но в этом сказывалось и то, что его торопили. Как видно, его торопили из-за рубежа. Похоже на то, что те империалистические круги, агентом которых он был в нашей стране, видимо, боялись упустить подходящий, по их мнению, момент и, теряя терпение, стали толкать своего агента-провокатора на поспешные авантюристические действия. Дело кончилось крахом для Берия, крахом для еще одного агента империалистов, с использованием которого у них были связаны немаловажные расчеты».
Хорошо сказано, весомо, политически мудро и дальновидно! Торопили из-за океана своего высокопоставленного агента в чине Маршала СССР, ой как торопили! Не иначе по личной указке генерала армии, кавалера высшего советского военного ордена «Победа», 34-го Президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, будущего автора закона о контроле над коммунистической деятельностью. И эти слова прозвучали из уст товарища Скрябина, соавтора «зловещего пакта Риббентропа-Молотова», бывшего руководителя объединенной советской разведки — Комитета информации при СМ СССР… Программа песочной терапии для недоразвитых подростков в действии, что уж тут еще скажешь!
Поспешные авантюристические действия, к которым в течение последних трех месяцев по указке империалистических кругов, агентом которых был будущий «расстрелянный английский шпион» Лаврентий Берия, заключались, по-видимому, в совершенно необоснованном, с точки зрения строгого соблюдения всех норм и требований действовавшего на тот период уголовного законодательства, мгновенного сворачивании «дела шайки врачей-отравителей», обвиняемых «во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей Советского государства». Читаем сообщение МВД СССР от 4 апреля 1953 года: «На основании заключения следственной комиссии, специально выделенной (!) МВД СССР для проверки этого дела арестованные… и другие привлеченные по этому делу полностью реабилитированы (!) в предъявленных им обвинениях во вредительской, террористической и шпионской деятельности»! Просто блестяще: не только арестованных и обвиняемых, но уже и полностью реабилитированных!
Или же в освобождении из мест заключения супруги самого Вячеслава Михайловича П. С. Жемчужиной (Карпович — так в тексте решения КПК при ЦК КПСС — авт.) и в ее стремительном, буквально за считанные дни восстановлении в рядах коммунистической партии (Постановление Президиума ЦК КПСС от 21 марта 1953 г., записки Л.П.Берии в Президиум ЦК КПСС от 2 апреля и 12 мая 1953 г.). А, может быть, напротив, во всемерном ускорении «дела Абакумова с его сионистским заговором в рядах МГБ», обвинении пособников «врачей-убийц» — «горького пьяницы» и, по совместительству, Министра здравоохранения СССР Е.И.Смирнова и бессменного начальника охраны Сталина, беспредельно преданного вождю Н.С.Власика…
Конечно, чего иного можно было ожидать от Соединенных Штатов после принятия Акта о внутренней безопасности, более известного под названием Закона Маккаррана-Вуда, по которому Коммунистическая партия США и другие организации «коммунистического фронта» (то есть те, чьи требования мира, разоружения, социальных реформ, упрочения гражданских прав населения и т. д. Так или иначе совпадающие с позицией компартии) являются подрывными, угрожающими общественному строю и обязаны регистрироваться в Министерстве юстиции как «агенты иностранной державы». Конгресс принял этот закон, несмотря на вето (!) Президента США Г. Трумена. Тогда еще было очень далеко до будущего дела ноября 1965 года под названием «Альбертсон и другие против Совета по контролю за подрывной деятельностью», по которому Верховный суд США снял требование о регистрации в качестве членов компартии, поскольку тем самым «нарушаются их права на защиту привилегии Пятой поправки к Конституции Соединенных Штатов, призванной избавить заявителей от необходимости делать выбор между самооговором и риском серьезного наказания сделать это».
Судя по всему, вопросы оперативного легендирования передачи материалов по каналу Розенбергов не были отработаны сотрудниками резидентуры в достаточной мере тщательно. Подумаешь, случайно встретились на улице в Соединенных Штатах два совершенно незнакомых еврея, им что же, сообща уже и поговорить не о чем, кроме истории создания Государства Израиль? С Гарри Голдом советская сторона с 1946 года больше не контактировала, поэтому опасность в 1950 году для супругов Грингласс и супругов Розенбергов отсюда больше не просматривалась, «за руку» их никто не ловил и не поймал. А содержание расшифрованных американскими спецслужбами благодаря проекту «Венона» советских шифротелеграмм можно было совершенно спокойно представить миру через американские и западноевропейские СМИ как злобные инсинуации антисемитов из СССР, которые сгубили героев сионистского сопротивления фашизму Михоэлса и Фефера у себя дома и хотят точно так же поступить со всеми теми, кто с ними «совершенно случайно» контактировал в годы войны во имя достижения общей победы над гитлеризмом.
Да, совершенно прав был сатирик Аркадий Аверченко, который в своем поучительном рассказе «Ложь» из сборника «Веселые устрицы» говорил: «Трудно понять китайцев и женщин… Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех — масса терпения, хитрости — и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения». То-есть, общее у китайцев и женщин в интерпретации Аверченко — склонность и умение производить сложные, миниатюрные и очень хрупкие поделки из любого подручного материала, а в результате и ювелирная поделка, и женская ложь обращаются в пыль при соприкосновении «со свинцовыми мерзостями жизни». А настоящая ложь, да еще и из уст опытного, битого жизнью адвоката — вот она.
«Когда рассказчик пришел к Лязгову (адвокату — авт.) и был с ним наедине, тот рассказал ему: «вечер провел довольно беспутно: из Одессы приехала знакомая француженка, кафешантанная певица. С которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в Гранд-отеле, а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил. И когда жена — неудачная лгунья спросила у адвоката: «Где ты был сегодня?, он повернулся к ней и, подумав несколько секунд, ответил:
— Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой-француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле — она очень богатая –по делу об освобождении имения от описи.. Затем я был в Гранд-отеле у одного помещика, а вечером заехал на минуту в «Буфф» повидаться со знакомым. Вот и все.
Я улыбнулся про себя и подумал:
— Да. Вот это ложь!».
Как говорил в аналогичной ситуации напарник Шурика в фильме «Операция «Ы» — «Учись, студент!».

Супруги Розенберги, вне зависимости о степени их причастности к тайнам атомного проекта в США и СССР, свой вклад в дело обеспечения обороноспособности Советского Союза внесли, и он оказался очень весомым! Достаточно назвать лишь имена Альфреда Саранта (Филипп Георгиевич Старос) и Джоэла Барра (Иосиф Вениаминович Берг), внесших выдающийся, неоценимый вклад в становление и развитие советской микроэлектроники, в фактическое основание и невиданное по своим масштабам и темпам научно-производственное становление ее столицы, подмосковного города Зеленоград — и этого уже будет вполне достаточно.
Документальные материалы по истории советского атомного проекта на сегодня в значительной мере преданы гласности, и по ним легко можно установить степень реального вклада тех или иных источников советской разведки в обеспечение успеха советской атомной индустрии. Я имею в виду прежде всего трехтомник «Атомный проект СССР. Документы и материалы», изданный в 2000 году в Сарове РФЯЦ-ВНИИЭФ под общей редакцией Льва Дмитриевича Рябева — единственного ныне живущего бывшего заместителя Председателя Совета министров СССР, 6-го Министра среднего машиностроения СССР. Ценность этого издания несомненная, так как в нем систематизированы все рассекреченные документа по данной тематике, составлены подробнейшие именной и предметный указатели абсолютно по всем аспектам работы над этим проектом. Наряду с этим ширится и поток публикаций мемуарного характера, к которым я в целом отношусь с определенной долей скепсиса.
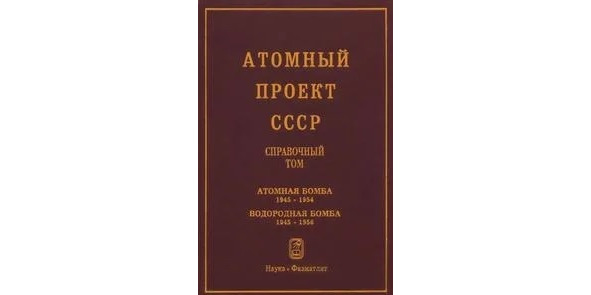
Так, сравнительно недавно (14 апреля 2017 года) в телепрограмме компании «Россия24» прошла передача под названием «Долгополов: Кто на самом деле передал СССР чертежи атомной бомбы?». В гостях у ведущей программы «Мнение» Эвелины Закамской побывал писатель, журналист, заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов. В анонсе программы отмечалось — является автором ряда биографий легендарных разведчиков, исследователь деятельности спецслужб, отлично знаком со знаковыми документам. Так с кем можно идти в разведку?». Поскольку Н. М. Долгополов — фигура в многочисленной компании расплодившихся за последние годы «историков разведки» очень известная, более того — в «Википедии» он характеризуется как «публицист, лично (!) близкий к Службе внешней разведки Российской Федерации», я с нескрываемым интересом посмотрел эту передачу. Из нее я почерпнул немало любопытного, в частности то, что во времена Е.М.Примакова в разведке существовала целая специальная программа для пресс-бюро ведомства под условным названием «Правда, правда, только правда», первоначально состоявшая аж из 11 пунктов!
Очень удивило меня то обстоятельство, что, оказывается, никакого интереса у сотрудников музея разведки (или чекистского зала) к бесценным документальным материалам личного архива, относящимся к биографии Рудольфа Абеля (Фишера) и хранившихся у его приемной дочери — Лидии Борисовны Боярской, так и не было проявлено до самого недавнего времени. В остальном же подробный рассказ Долгополова меня совершенно не впечатлил, про того же «Персея» («Млада») — американского физика Теодора Холла как одного из предполагаемых главных источников документальной информации для советского атомного проекта понаписано много всякого-разного, как, впрочем, и о гораздо менее популярных чем он сам, физиках Себорере и Моррисоне.
Лично для меня гораздо более интересным был тот пассаж, в котором Долгополов рассказал о поручении Е.М.Примакова написать статью об Эймсе, которую «сумеют доставить адресату прямо в тюрьму». Закономерно возникает вопрос: «А на хрена вообще козе был нужен баян?». В чем потаенный смысл подобной достаточно невнятной с оперативной точки зрения затеи? Ну, хорошо, написал Н. Долгополов в газете «Труд» в 2000 году заметку под названием «В ЦРУ хотели бы забыть об Эймсе», которая в большей степени была посвящена не истории разоблачения Эймса, а рекламе изданной в российском издательстве «Терра» 550-страничной (!) совместной книги Дэвида Мерфи (ЦРУ) и С.А.Кондрашова (КГБ) под названием «Поле битвы — Берлин». В конце заметки помещен застенчивый вопрос Долгополова: «Эймс приговорен к пожизненному заключению. Есть ли у него, по-вашему, шансы на помилование?». Ответ Мэрфи на него звучал недвусмысленно: «Очень в этом сомневаюсь… Мне бы вообще хотелось позабыть об Эймсе, и поскорее». Не уверен, что содержание подобных публикаций в российской прессе доставят хотя бы малейшую радость узнику федеральной тюрьмы строгого режима Алленвуд в штате Пенсильвания (США), в которую он помещен на пожизненное содержание…
Со слов Н. Долгополова известно, что темой истории разведки он начал заниматься в 1993 году. К этой работе, к документам разведки и к личному знакомству с ветеранами разведки он был допущен лично директором СВР Е.М.Примаковым. Куратором деятельности Долгополова стал Юрий Кобаладзе. Вот как описана эта история в СМИ (Мария Ракова, «Новые тайны советской разведки», 17.02.2017 «Сетевое издание агломерации «Большая Москва»). «Недавно вышла в свет книга «Легендарные разведчики» из молодогвардейской серии ЖЗЛ, повествующая о работе внешней разведки в годы Великой Отечественной. Однако и сам ее автор — личность, по-своему, легендарная. Заместитель главного редактора «Российской газеты», историк разведки, публицист, именно Николай Долгополов одним из первых приоткрыл для читателя постсоветской России завесу секретности над многими тайнами СВР».
«Николай Михайлович, с самого начала хочется спросить: что заставило вас в начале 90-х так неожиданно обратиться к теме разведки? Ведь до этого вы специализировались на совершенно другой тематике.
— Уверен, что если журналист замыкается на одной теме — будь то сельское хозяйство, транспорт, спорт…, этот выученный им назубок набор невольно заводит его в тупик. Поэтому всегда старался смотреть на наш с вами мир шире Специализируясь на международной тематике и спорте, очень любил писать о балете, о людях искусства. Но, как вы правильно сказали, тема разведки появилась совершенно неожиданно. Я уехал собкором в Париж из Советского Союза в 1987 году, а вернулся в Россию уже в конце 1992- го, став первым заместителем главного редактора «Комсомолки» Однажды главный редактор Владислав Фронин предложил: недавно открывшемуся пресс-бюро СВР РФ нужен парень, который бы смог понять, что происходит в этой ранее неведомой миру Службе. Но этот журналист должен разбираться и в том, что происходит за рубежом, владеть языками, однако не иметь отношения к внешней разведке. Почему это обязательно должен был быть человек со стороны? Потому что тогдашний директор СВР Евгений Примаков был убежден: статьи о разведке должны писать не только чекисты. А и профессиональные журналисты с незатуманенным и независимым взглядом».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.